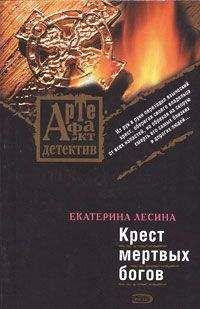как и все, передвигался, рубил сучья, стаскивал их в одно место близ голого взлобка, видного даже снизу, из все еще густой и упрямистой чащи, которую лесоповальщики старались обходить. Там грудились металлические бочки, заполненные горючкой, принадлежащей лагерной охране. Уж много раз мужики говорили, чтоб не обливали ею сучья, и без того горят — спасу нет… Но охранникам хоть бы что, точно бы не слышат, обольют горючкой кучу хвороста, и тот пышет черным задышливым дымом. От него на душе муторно, и глаза ест. Вот и обходили мужики стороной чащу, чтобы лишний раз не встретиться с лагерной обслугой, которой ничто не мило, хоть теперь же готова запалить тайгу… Ну ее подальше, эту обслугу! Норовистая и злая, не смотри, что в лесу чуть ли не каждый день встречаешься с нею, все нос воротит, а иной раз и в душу норовит заглянуть, и это уж совсем ни к чему. Иль мужик в Сибири захудалый и запамятовал о своей цене?..
Пеганка смотрела в ту сторону, где работали подневольные, согнанные со всей России, и обличьем разные, есть белые, а порой и мучнисто белые, прислонится такой к березке и уж не сразу разглядишь его лицо, только по одежде и догадаешься, что все еще трется щекой о дерево бедолажный. Но есть и черные, и руки такие же, и в лице чернь, она почище хромовой голяшки. Куда карымам с их смуглотой до этих людей! То и смущало мужиков, варначье, говорили, встреться с таким в тайге один на один, небось сразу же потянется за ножичком…
Но однажды конвойные бросили на делянке черного человечка, дохлый, сказали, сам отойдет. Ну, лежал черненький, смотрел в небо чужое, шептал что-то, да все не по-русски. Те из мужиков, кто, жалеючи, подошел поближе, хотели бы понять, о чем он толкует, но понять не смогли, и, когда отошел несчастный, засыпали его наскоро тут же, близ лесной делянки, комковатой землей. С тех пор не опасались черненьких: тоже люди, тоже плачут и помирают…
Не одна пеганка поглядывала в ту сторону, где работал подневольный люд, а и Егор с Кузей, правда, все больше в те минуты, когда пеганка не вертела мордой, а напрягшись, тянула возок, упадая вперед и опасаясь замедлить ход, худо тогда будет, не просто окажется сдвинуть возок с места, хотя братья и подсобят, обхватив ручищами оглобли. Уж лучше разогнаться и тащить возок без передыху до верхнего склада, что близ голой лиственницы, потрескавшейся у корня. В те трещины густо нападало лишайника, нынче он посверкивал зелено и ярко, было такое ощущение, что дерево еще не умерло, что-то в нем слабое, едва ощутимое живет.
Братья посматривали в ту сторону с грустью, скрывая друг от друга свои мысли, впрочем, догадываясь, что они нынче одни у них, мысли те об отце, его в середине девяностых увезли из деревни, судили в уездном городке за какую-то провинность: норовист был батяня, не давал спуску и сильному; первое время, оказавшись в каком-то лагере на севере Якутии, он еще писал о себе, а потом письма перестали приходить, сказывали, помер батяня, подхватив чахотку. Братья верили, отец не стал бы терпеть понужанье со стороны, скорее, умер бы, чем терпеть надруганье над собственной сутью, которую полагал более чего другого поднявшейся над жизнью. Он и детям говорил про это возвышенье, вот вроде бы тело устало, спасу нет, знай, ложись и помирай, но нет, вдруг душа забунтует, загордится, точно бы испила от целебного зелья — от вольной волюшки, что во всякую пору светит, велит подыматься и идти дальше… Ах, душа!.. Чудная она у карыма, не от мира сего, это уж точно, посреди горя разливанного, мучений, что вроде бы придавили сущее в человеке, вдруг противно всему вознесет его высоко-высоко, и дивуется тогда он на мир, и радуется. Есть и такие, что ходят по земле в дранье, презираемые и понукаемые, однако ж с теплым светом в усталых глазах, глянешь в те глаза, и полегчает на сердце, будто в теплоту их окунулся и увидал в чужом сердце помимо страдания, которое от веку, еще и желание помочь ближнему, и воскликнешь тогда с горьким, а вместе и сладостным недоумением:
— Ах ты, Господи, что же это за человек-то такой?!.. Спаси Ты его, раба своего, не дай ему пропасть посреди людского неверья и озлобления!
Власть видит себе помеху в тех ходоках, а еще и в душе у карыма, смутна она, непонятна для нее, а потому ненадобна. Ей, постылой, много чего ненадобно, отвергла она и тех людей, кто с лаской и с жалостью к роду человеческому, словно бы сама в силах пожалеть и приласкать. Ой ли?.. Но, может, она еще что-то видит в душе у карыма? А может, опасается, что вдруг возгорится сия душа чудным светом и падет тот свет на ближнего человека и вздохнет он полной грудью и подумает о жизни не с прежней болью?.. Едина, сказывают, душа в каждом из нас, и нет другой такой одинаковой. Может, и верно. Взять, к примеру, Егора с Кузей, про них ли не скажешь, что одна душа, большая и сильная? Мир ими общею мерой принят, хотя они и не двойнята, погодки, у них все сходится, и маета и радость точно бы из одного колодца. Вот и нынче они смотрят на подневольных, прислушиваются к задышливым голосам и, таясь друг от друга, думают об отце. И были они без отца и матери, хоть и не очень малы, все ж точно бы сокола без крыл, однако ж возросли, спасибо деревенскому миру, на сходе тогда решили приглядеть за парнями, чтоб чего не натворили, Евдокимычу спасибо, не однажды остужал горячие головы спокойным сдержанным словом… А не то уж давно потерялись бы в буйнотравье жизни.
Пеганка тянула возок, напрягаясь изо всех сил, подле нее, с обеих сторон, положив руки на оглобли, шли Егор и Кузя. И тут случилось что-то… точно бы раскололся воздух, грохнуло, сдвинуло знойную тяжесть с застоявшихся сосен и еще долго звенело. А когда заглохло, увидели братья, как в саженях двадцати от них, разметав руки и тоненько вскрикнув, упал человек в коротком стеганом бушлате. Братья кинулись к нему, разметавшемуся, и уж были недалеко от упавшего, когда раздался упрямый окрик:
— Ни с места! Стреляю без предупреждения!..
Кряжевы замедлили бег, но ненадолго, сознавали, тот, с винтовкой, вряд ли поопасется исполнить угрозу, все ж не поменяли в душе. Они и не