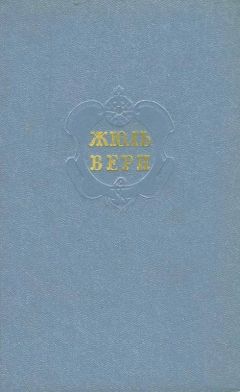попадает или шаровая молния прокатывается совсем рядом или даже внутри, по жилам, как по живым проводам, и таким ударяет разрядом, что я загораюсь, будто лампочка, ярким светом, лежу потом без сна и свечусь электрическим ночником до рассвета.
Сильвия говорит, что я никак не освоюсь с горем, потому что слишком тебя люблю. И не могу расстаться с тобой, даже когда тебя уже нет. Она говорит, что я негодный ученик, и крепко меня обнимает. А мне только того и надо. Две маленькие грелки согревают спину, и Сильвия рассказывает мне, о чем вы обе мечтали в детстве. Ты хотела стать журналисткой или балериной. Или сразу и той и другой. А иногда еще художником. Блаженство притупляет слух. Голос Сильвии усыпляет.
Вчера я так и уснул у нее на коленях. А когда она меня разбудила и я увидел ее склоненное ко мне лицо, это было получше самого лучшего сна. К себе я вернулся сияя. Не голова, а звезда, не волосы, а нежный Млечный Путь, моего излучения хватало на весь коридор. У себя в комнате я бросился навзничь на кровать. И смотрел в потолок до самого рассвета. На рассвете заснул крепким сном, проснувшись же, не сразу вспомнил, что ты умерла. Снилось мне что-то странное. Как будто тут за письменным столом кто-то сидит. Я испугался, что это твой призрак, что ты меня не узнаешь. И сердце застучало так громко, что разбудило меня.
Послышались шаги, потом скрипнула дверь, но наяву или во сне, не знаю. Тогда я представил себе, что ты приходишь по вечерам и читаешь мою тетрадку. Мне так понравилась эта выдумка, что я почти в нее поверил. Но тут заорал чокнутый петух-горлодер, и я понял, что просто наступило утро. Марлен Дитрих глядела на меня с откровенным упреком. Как будто говорила: “Горошку? Горошку?” – голосом тети Луизы. Это и была тетя Луиза – пришла покормить птичку. А я тут красуюсь в пижаме, сияю башкой-светилом с торчащими во все стороны проводками.
– Глазки у тебя что-то свинячьи, совсем заплыли!
На ее языке это и значит: “У тебя башка светится и проводки торчат”. Я чуть не ответил: “А у тебя зад расплылся!” – но удержался.
По утрам, когда она расхаживает в ночной рубашке и еще не начала талдычить про Бога, я ее вполне люблю, эту гиппоподаму. В ней, можно сказать, есть своя прелесть. Какая-то такая красота. Будто надутая гелием балерина исполняет медленный номер кормления аистенка.
В тоске мое сердце распахнуто настежь – входи, кто пожелает! Даже тете Луизе найдется место. Я бы хотел не просыпаться никогда. Остаться навсегда на чердаке у Сильвии, бродить там в пижаме, дышать йодистым запахом. Да-да, прильнуть и нюхать, вдыхать. А мысли о войне засунуть в катакомбы мысленных извилин. Забыть. Забыться. Но вот забыть тебя я не смогу.
Фромюль,
11 октября 1944
В лавку часто заходит один щупленький немец. Они с бабушкой подолгу мирно о чем-то беседуют. Он всегда набирает большой кулек разных сладостей. Конфетки в цветных фантиках как-то не вяжутся с его нацистской формой. Зовут его Ганс как-то там, и он, похоже, играет в нормальную жизнь без всякой войны. Будто взрослый ребенок нарядился в костюм, который ему все еще великоват. Так и хочется выскочить из убежища и сказать ему: “Что за дурь? Хватит уже! Верните людям весну, футбол и мам. Сейчас же! Или пошел вон со своими конфетками!”
Эмиль пытается объяснить мне всю нелепость положения вещей. Нацисты не любят евреев, как я не люблю овощи. Но я из-за этого не сжигаю огородные грядки. Вот этого я не могу понять. Хотя, если в супе попадаются волокна лука-порея, мне кажется, что я жую старушечьи волосы. Нацисты ненавидят овощи с еврейских грядок и вообще все недостаточно белокурое из произрастающего на свете. Но если Гитлер вдруг посмотрит на себя в зеркало, то ему бы следовало сначала убить цирюльника, который годами выстригает ему дурацкие усики, а потом и самого себя прикончить несколько раз подряд!
С тех пор как я влюбился, у меня прибавилось бодрости. Я не меньше думаю о тебе, но что-то во мне смягчилось. В голове бродят цветные мысли, причудливые сны снятся средь белого дня. Я даже начал рисовать.
Но снова пойти на чердак не решаюсь. Вернее, я туда хожу. Прикладываю к стенке свой веревочный телефон, слушаю, но потом возвращаюсь к себе и ложусь спать. Вчера Сильвия храпела. Чердачная фея храпела! Было похоже на моторчик внутри кота.
Сегодня вечером, меняя солому у Марлен Дитрих в гнезде, я нашел там яйцо. И ужасно обрадовался. То ли моя аистиха – пернатая Дева Мария, то ли она по ночам занимается чем-то не слишком благочестивым с чокнутым петухом.
Я пригляделся к яйцу и увидел снизу на нем надпись крошечными буквами: “Это тетя Луиза снесла”.
Я взял свою тетрадь, чтобы опять писать тебе, а из него вдруг выпало письмо, вложенное, как закладка, между страниц.
Миленький мой Мену!
Знаю, ты вправе на меня рассердиться, потому что я прочитала твою тетрадь. Всю целиком. Проглотила в один присест. Всухомятку и с удовольствием. Я просто хотела немножко рассмешить тебя этой шуточкой с яйцом, но увидела открытую тетрадь. И меня потянуло к ней как магнитом. Я начала с последней страницы, где ты рассказываешь, как мы встретились на чердаке.
Можно сказать, я взломала дверь в твое сердце, этот твой чердак. Который больше всего твоего тела-дома. Твое сердце не киностудия, а целая планета. Вулканы извергаются в океаны, снег идет над морем, потому что ты все чувствуешь, все, постоянно. И я тоже чувствовала. Все, постоянно. Иногда ты ворочался в кровати. И я не понимала: то ли ты притворяешься, будто спишь, то ли – будто проснулся.
После того как я все это прочитала, начались работы по расширению сердца. Моего. До сих пор я только не давала ему сжаться, пуская в него друзей. А тут на меня пахнуло свежим ветром. Вдруг отросли широченные крылья, в ногах забегали мурашки – какое там! – целый муравейник защекотал: танцуй, танцуй! Я уж забыла, до чего мне вот этого не хватало. А тут такая встряска. Такой нежданный подарок – да, я потрясена.
Так вот, у меня есть одно предложение. Ничего непристойного, для этого ты слишком мал, все вполне прилично, и, я надеюсь, тебе понравится.
Не знаю, что мне лучше