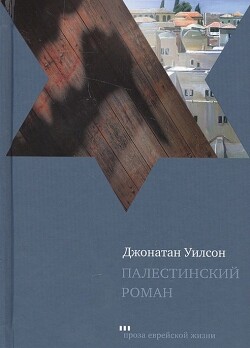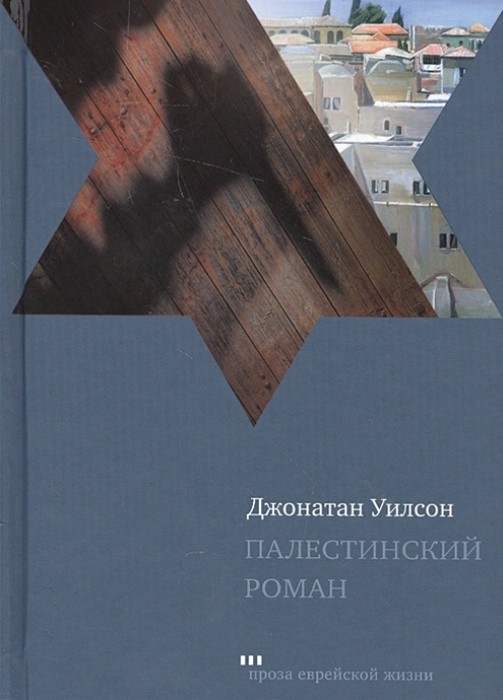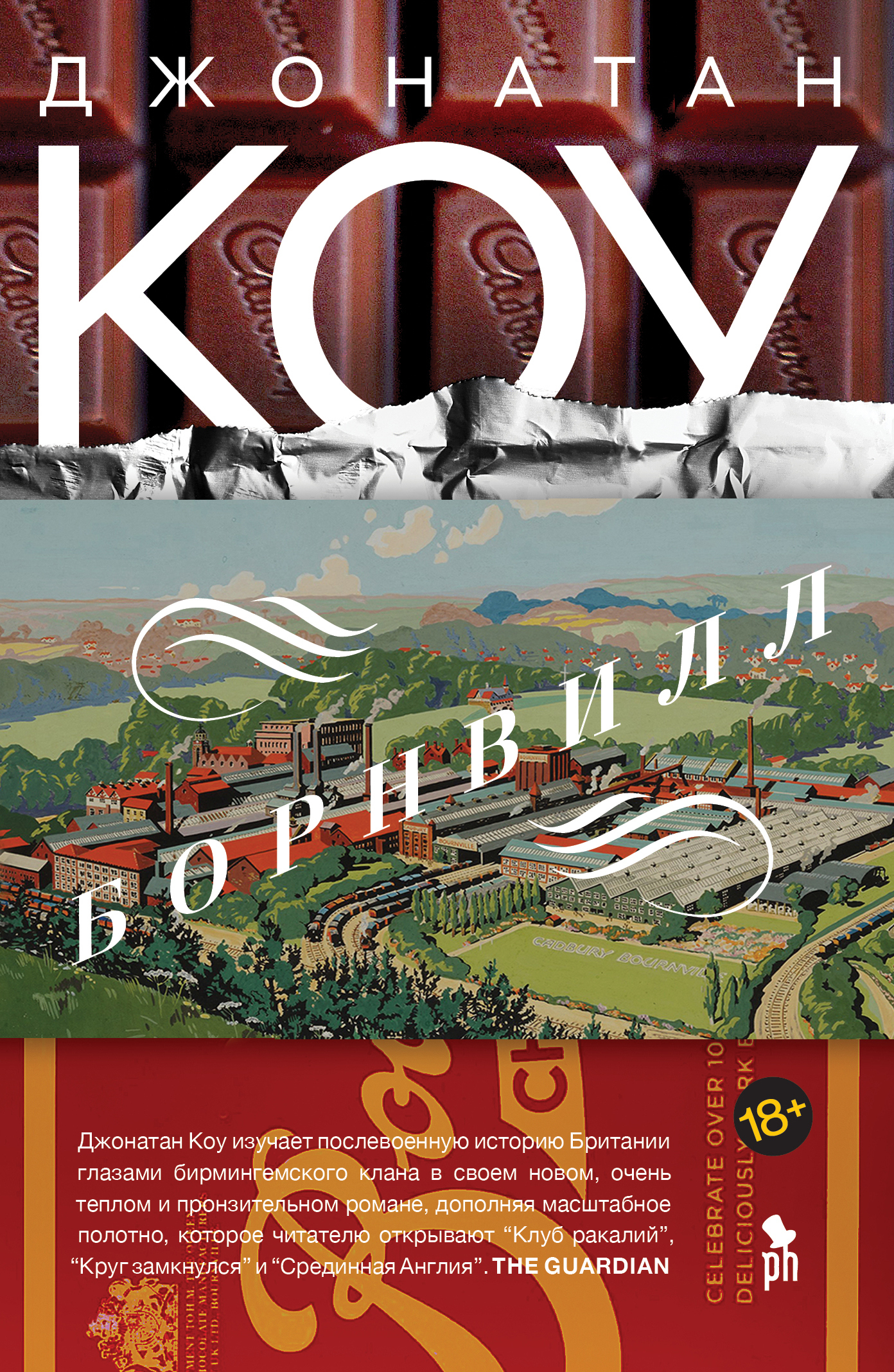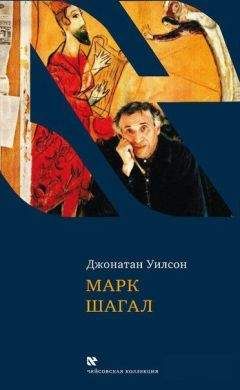— Тебе кто разрешил вставать?
И снова смех.
Мустафа пощелкал языком.
Сауд громко выругался, проклиная их всем скопом. Они перестали смеяться и велели ему садиться в машину.
— Думал, мы тебя пристрелим? Да мы уж скорее его застрелим, — ухмыльнулся Мустафа и кивком указал на машину Блумберга, которая скрылась и вынырнула вновь уже у подножья холма.
На рассвете, когда проезжали Гор [43], Блумберг проснулся от боли в левом плече. Он сел поудобнее и увидел за окном бурный поток, бегущий по камням в теснине: Иордан. Потом дорога долго петляла по голым каменистым склонам, горы обступали ее с обеих сторон, и он завидел впереди, в сотне метров, нечто похожее на гигантский перевернутый черный плуг.
Когда подъехали ближе, Рахман чуть притормозил и указал на плуг рукой.
— Иерихонская Джейн. Немцы подарили туркам, — пояснил он.
— Что-что? — не понял Блумберг.
И тут до него дошло, что над обрывками колючей проволоки и кустиками олеандров возвышается огромная гаубица.
— Это мы так ее назвали?
Блумберг забыл, что и здесь шла война.
Рахман еще сбавил скорость, так что машина едва ползла.
— Алленби дошел досюда, — он махнул рукой направо, — а турки драпали оттуда, — и указал налево.
Рахман говорил с еле заметным раздражением, как будто бегство турок, событие, как представлялось Блумбергу, более чем желанное в то время, было позором для всего региона.
— А вы, — спросил Рахман, — вы служили в британской армии?
— Да.
— Где?
— Во Фландрии. Рисовал карты. Мне было тридцать восемь, староват для окопной жизни, но в конце концов меня отправили на фронт.
— Участвовали в боях?
— Сначала да, немного, потом нет.
— Ранило?
Блумберг мог бы и не поддерживать этот разговор, но он чувствовал, что должен выговориться. Джойс рядом нет, так пусть Рахман послужит жилеткой. И почему бы не вернуться к этому еще раз? Чтобы еще раз проверить, храбрец ом или трус. Хотя, конечно, он и без того знает ответ
— Я сам себя ранил. Отстрелил большой палец на ноге. Лишил ее величество услуг одного присягнувшего бойца. Короче, дезертировал.
— Почему вас не расстреляли?
— Хотели сначала, — ответил Блумберг и усмехнулся. — А потом решили, что худшим наказанием будет оставить мне жизнь.
Рахман улыбнулся. Никто в этой машине, слава Богу, не собирался его жалеть.
— И в чем же заключалось наказание?
— Три недели без денежного довольствия, потом легкие работы, пока рана не зажила.
— А потом?
— Обратно на передовую, как воздаяние за грехи. Был связным, зарисовывал вражеские позиции.
Рахман кивнул.
— Повезло. Здесь бы расстреляли на месте, это точно. Если бы вы были арабом и выстрелили себе в ногу, чтобы не участвовать в бою… — Рахман прищурил глаз и изобразил, что целится из винтовки. — Расстрельная команда.
— А если б я был еврей?
— Так вы вроде и так еврей.
Блумберг засмеялся. Во всем мире чуть не у всех судьба еще ужасней, и никакого снисхождения к его глупым переживаниям ждать не приходится.
Они ехали мимо сонных арабских деревушек на юг по холмистому плато — на взгляд Блумберга, здесь было больше лесов и водоемов, чем в тех местах Палестины, где он побывал. Вдруг, откуда ни возьмись, возник замок — горделиво высился над рекой на скалистом утесе. Однако Рахман не счел этот объект достойным пояснений. Блумберг еще полюбовался пейзажем, потом посмотрел на руки: пальцы чуть заметно подрагивали, дрожь невозможно было унять. Как там Джойс без него? Счастлива, наверное. Если счастье вообще возможно — хотя американцы в это, похоже, верят: вся их культура нацелена на то, чтобы подпитывать иллюзии. Бедная, что он с ней сделал… Предложил ей любовь — и забрал, уговаривал ее писать картины — и ругал их почем зря. Сколько раз он срывал на ней злость и раздражение, тратил ее деньги — как гадко все это. В Лондоне, когда он впервые ее увидел, Джойс была пылкой, увлекающейся и, к счастью, такой и осталась, несмотря на все трудности, но последний год в Вест-Хемпстеде стал для нее настоящим испытанием. Он не мог объяснить ей, что с ним происходит. Он думал, она и так поймет, и она действительно всячески старалась его утешить. Оставалось только надеяться, что со временем он сможет отплатить ей добром за все, что она для него сделала, прежде чем они расстанутся навсегда. Или уже расстались?
Один из легионеров, сидевших позади, проснулся и сказал что-то Рахману, тот проехал еще немного и остановил машину в тени деревьев. Мужчины вышли размять ноги. Через несколько минут подкатила вторая машина, и ее седоки высыпали наружу. Сауд неподвижно стоял возле багажника и глядел вдаль — туда, откуда они приехали. Он расстегнул ворот рубашки и чуть ослабил, но не снял галстук, выданный ему в резиденции губернатора. Грязная марлевая повязка сползла — под ней была запекшаяся кровь.
Блумберг обошел вокруг машины.
— Что с тобой случилось?
Мальчик сначала глянул на легионеров, столпившихся вокруг карты. И хотел было ответить, но Рахман отделился от остальных и что-то резко приказал ему по-арабски.
— Поранился случайно. Ничего особенного, — ответил Сауд.
— Если что, я Марк Блумберг. Думаю, ты сможешь мне помочь кое в чем.
— Да, — ответил Сауд, — я вам помогу.
— Нагружать я тебя не буду. Я работаю один и сам смешиваю краски! — Блумберг счел это тонкой шуткой и очень удивился, когда мальчик сказал на полном серьезе:
— Разве может кто-то другой это делать за вас?
— Именно, — сказал Блумберг. — Никто не может.
Мальчик потупился и принялся ковырять каблуком дорожную пыль. Когда же вновь поднял глаза, у Блумберга возникло чувство, будто он его где-то видел раньше: он помнит эту долговязую фигуру, худое лицо, пушок над верхней губой. Он точно его уже где-то видел, в этом сомнений быть не могло. Вот только когда и где? И еще мальчик так странно смотрел на него — хотя почему бы и нет? Он ведь вообще странный.
Рахман сложил карту и стал поторапливать остальных: пора ехать.
— Еще увидимся, — сказал Блумберг мальчику. Тот промолчал.
С холма на окраине Амман выглядел как большая деревня, однако, когда подъехали ближе, Блумберг убедился, что город намного протяженней, размером с небольшой лондонский район. Они проехали мимо королевского дворца [44], довольно неуместного здесь образчика швейцарской архитектуры, потом мимо железнодорожной развязки с указателями: «Главное управление трансиорданской полиции», и «Лагерь Королевских ВВС Великобритании». В конце концов остановились возле дома с претензиями на замок, служившего временным пристанищем Фредди Пику, которого, к большому удивлению оторопевшего слегка Блумберга (недаром он не голосовал за лейбористов все эти годы), Рахман называл не иначе как Пик-паша. Но так или иначе, а Пика дома не оказалось — уехал на несколько дней по государственным делам.
Блумбергу отвели большую комнату, роскошную в сравнению с тем, к чему он привык в Иерусалиме. До блеска отполированная мебель темного дерева казалась великанской, и от стены до стены раскинулся великолепный красно-охряный килим [45]. Блумберг разделся до исподнего и растянулся на широкой кровати под медленно вращающимся вентилятором. Сквозь тонкие белые занавески пробивалось утреннее солнце. Блумберг закрыл глаза. И уже совсем было задремал, как вдруг вспомнил, где видел мальчишку — в своем саду в Тальпиоте. Блумберг еще поначалу принял его за Джойс. Но что он там делал? Может, хотел ограбить дом? Что ж, воришка сильно бы огорчился. Блумберг встал и подошел к окну. На улице толстуха в поношенном черном платье сидела на корточках перед корзиной, в которой был виноград — а может, инжир, издали не разберешь. Не так давно Блумбергу наверняка захотелось бы нарисовать ее, но тот порыв давно угас. Сейчас ему нужно было нечто более глубокое, и внешний мир интересовал его все меньше и меньше.