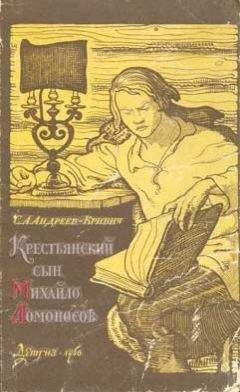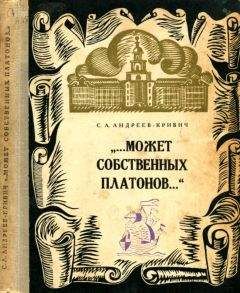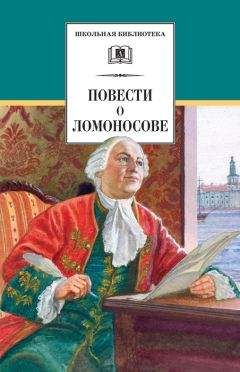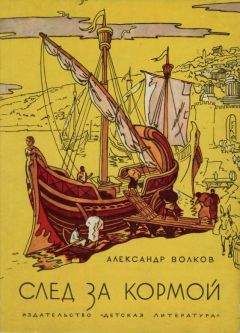— Небогато идёшь. В дороге чем пособи, деньги береги, в Москве ох как нужны будут! Пять рублей… Так… — Фома Шубный открыл запертый на замок сундучок, порылся в нём. — Вот к твоему богатству ещё три рубля. — И он передал Михайле деньги. — В этом ли, как на Москву придёшь, учёным людям показываться будешь? — кивнул Шубный на Михайлину холщовую рубаху.
— Больше ничего и не взял. Торопился.
Шубный снял с гвоздя китаечное полукафтанье:[64]
— На-ка.
— Спасибо! — Михайло стал укладывать полукафтанье в мешок.
— Малость узковато будет. Ишь, каков ты!
Михайло уложил полукафтанье, затянул мешок и привязал к нему оплечья из верёвки.
— Много от тебя, дядя Фома, добра видел. Не забуду, дядя Фома.
— И не забывай. Не след доброе забывать. Доброта — она вроде в тепле землю держит. А без тепла от земли и жизни не будет, ничего из неё не поднимется. Вот это и помни. Мир — он большой. И много в нём всякого — и доброго и злого. Ты ещё не сказал, кто в волости поручился.
— Банев.
— На себя принял. Как с отцом-то поладит?
— Единственно он в таком деле с отцом добром и уговорится.
— Стало быть, сейчас. Ну, Михайло…
Шубный обнял Михайлу, и они трижды поцеловались. Вдруг Шубный прислушался и насторожился:
— Слышишь?
— Слышу.
Свистела вьюга. Шубный прислушался опять.
— Крутой полуношник пал. По такому времени в поле не ходят. Может, только-то по весне и найдёшь того, кто в поле один сейчас случится.
— Да. В прошлом годе застыл так-то один наш куростровец.
— Стало быть, вот что: оставайся пока у меня. Схороню так, что никто и не найдёт. Как кончится буран, пойдёшь. Случается, такой быстро к концу приходит. К утру тихо станет. Может, и раньше. Оставайся.
— Зачем же, дядя Фома?
— Михайло, поостерегись. — Шубный кивнул в сторону окна.
— Милостив бог. Да и путь так-то уж знаю. И примета хорошая есть — всё двинского берега держаться.
Шубный молча смотрел, как Михайло плотно запахнул шубу, крепко повязал кушак и надел шапку.
— Всем, от кого добро видел, дядя Фома, поклонись.
— Поклонюсь. Без родительского благословения, Михайло.
— У матери был.
— Ну, мать на хорошее дето благословила бы.
Михайло направился к двери, вскинул на плечи дорожную суму. Шубный взял со стола свечу, вставил её в фонарь и пошёл за Михайлой в сени.
Михайло открыл дверь и шагнул через порог. Ветер ударил с размаху дверь о стену, задул фонарь. Михайло наклонился против валившего с ног ветра, стал боком, прижал правой рукой к лицу поднятый воротник, круто ступил, забирая правой ногой, раз-два, и пошёл, упрямо наклонившись, вперёд, шагая в темноте через метель.
Глава двадцать вторая
В ЧЁМ НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА?
Когда Василий Дорофеевич вернулся домой, жены дома не было. Она ушла к Некрасовым ещё до возвращения Михайлы. Как только он вошёл в дом и зажёг огонь, ему сразу бросилось в глаза, что на том месте, где всегда висела, нет Михайлиной шубы. Василий Дорофеевич стал просматривать вещи Михайлы — и через минуту кинулся вниз, в конюшню.
Возвратившись домой от Некрасовых, Ирина Семёновна затопила печь и села подле неё за прялку.
Перед иконами в лампадах горели тёплые огни. По тёмным образам пробегали от колеблющихся лампадных огней летучие блики.
Наружи над землёй в темноте летели поднявшиеся снега. Ветер бурунами поднимал вверх снежные столбы. На высоте вихрь изнемогал; вращающийся, с круглой воронкой столб на вершине рассыпался и валился вниз густой снежной лавиной. Ещё она не успевала упасть на землю, как её поднимал новый порыв. Снежное мелкое крошево кипело над землёй.
Порыв ветра загудел в печных переходах и с пламенем выбился из печи.
«Крута непогода. Впервой такая в этом году, — подумала Ирина Семёновна, прислушиваясь к метели. — Беды бы в поле не случилось». Она подошла к окну и близко прислонилась к нему лицом. За окном кружила метель.
— Об такое время в поле не ходят, — сказала вполголоса Ирина Семёновна и вновь села за работу.
В сенях изо всей силы ударилась о стену распахнувшаяся наотмашь под порывом ветра дверь. Со стуком открылась и вторая дверь — из сеней в комнаты. Снаружи ввернулся белый дымящийся клуб метели. Тонкий, истёртый ветром снежный прах ударился в углы и лёг серебряным блёском на стены.
Ветер задул стоявшую на столе свечу и тревожно метнувшиеся вверх лампадные огни. Ирина Семёновна быстро обернулась.
В красном свете, падавшем в сени от жарко пылавшей русской печи, шёл к распахнутой двери занесённый снегом человек. Но закрыв дверей, он идёт через сени прямо в комнату. Воротник тулупа высоко поднят.
Ирина Семёновна встала и пошла навстречу вошедшему. Когда он уже переступил порог, она узнала Василия Дорофеевича. Ирина Семёновна прошла через сени к наружной двери, закрыла её на щеколду и заложила засовом.
Василий Дорофеевич вошёл медленно, молча. Он протёр руками ослепшие от снежной пыли глаза. Не глядя сбросил тулуп, не заметив, что тулуп упал не на лавку, а на пол. Не обив веником обросшие снегом валенки и забыв снять шапку, он сел у стола, облокотился и сжал руками голову.
Ирина Семёновна запалила в печи лучину, зажгла свечу и лампады. Василий Дорофеевич поднял голову и заметил зажжённые лампады.
— А, — сказал он равнодушно и снял шапку.
— Василий, ты почему вернулся? Случилось что? Беда?
— Беда по свету рыщет да дела и случая ищет.
— Знать бы мне. Авось не испужаюсь?
И вдруг Василий Дорофеевич встал, уставился тупым, злобным взглядом на жену и закричал:
— Не испужаешься! Уж больно не пуглива! Может, своими бесстрашными глазами не всё увидишь! Может, на что со страхом смотреть надо?
Ирина Семёновна вздохнула:
— Тебе виднее. — Она спокойно глядела на мужа. — Ты не злобись, Василий Дорофеевич. Чтобы злоба в силе была, другому понятна должна быть. А ты сам утешаешься…
— Растолкую. — Он махнул рукой в сторону окна: — Видишь? Ежели в такую погоду человек в поле? — что? Хорошо ли?
— Нехорошо.
— То-то и оно. Михайло ушёл.
Ирина Семёновна взглянула в окно. Там во мраке летели высокие белые снежные столбы. В окно скреблась тонкими обледеневшими ветвями рябина. И Ирине Семёновне живо представилось, как, закрывая глаза от бьющего снега, идет через поле, пригибаясь к земле, Михаёло.
— Правду, значит, говорил.
Василий Дорофеевич не слушал.
— Пробовал догнать. Нельзя. Конь становится. Нет пути. В такую-то метель. Ночью. Руки своей в темноте не увидишь. Как можно?
— А можно, значит.
— Тебе бы, а? Каково бы справилась?
— А я не хвалюсь. Ты как — на санях? Михайло-то, видно, пеший…
Василий Дорофеевич искоса смотрел на жену. Он глубоко вздохнул:
— Эх!.. Что же, разговор с тобой, Ирина Семёновна, вести станем.
— Об чём бы?
— А ты вот слушай. Да. Ведомо, почему на сердце у тебя к Михайле вражда. Теперь в твою сторону решилось. Тебе верх.
— А… Догадлив.
— Как умру я — тебе добро.
— Чтой-то такая охота тебе, Василий Дорофеевич, себя хоронить? Не рано ли о смерти задумался?
Ветер изо всей силы ударил о бревенчатую стену.
— Не просто так-то сейчас в поле идти, — сказала, прислушавшись, Ирина Семёновна.
За прожитые годы Василий Ломоносов хорошо узнал нрав своей жены. Потому-то он удивлялся всё больше. Неладно как-то.
— Ты что?
— А ничего. Думаю просто, — и Ирина Семёновна поправила белый шерстяной платок, длинные концы которого, спускаясь с головы, были крестом перетянуты на груди и завязаны узлом за спиной. Она села на скамью к огню.
Василий Дорофеевич ещё попробовал:
— Теперь прямая дорога — всему тебе в руки.
— Не погодишь ли потому со смертью?
— Было бы в моей воле… — Он усмехнулся. — Слушай, Ирина Семёновна, ежели вдруг я распоряжусь — после смерти моей всё церкви, а?
— Всё может быть. Умом ведь бог тебя не обидел.
— Будто нет. Что у тебя к Михайле, давно, к примеру, вижу.
— А. Тут не ошибся.
— Так вот, Ирина, церкви на вечное поминовение души? Всё добро?
— А ты думаешь, что крепче той силы на земле ничего нету? Превозмогло ли твоё-то? — И Ирина Семёновна показала кивком головы на окно, за которым шумела метель.
— То Михайло. Не всякому…
— Только что об том же тебе и говорила. Видно, понял.
— Ага… Не завидно ли — на какой высоте Михайлино дело решилось? Дух и гордость. Тебе бы?
— Судей много. Тебе ли о том судить?
Тут больше Василий Дорофеевич не выдержал. Он закричал бешено:
— Жена!..
Ирина Семёновна засверкала глазами:
— Жена. Ну! — и стояла выжидающе.
Ломоносов пошёл против ставшей во весь рост Ирины Семёновны. Она не сморгнула глазом.