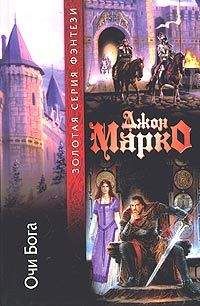Синел вечер, над елями кружило воронье: никак не могло примоститься на ночлег. В глухом лесном овраге завыла голодная волчица. Конек под Акинфием фыркнул, тревожно покосился. Акинфий нащупал за пазухой пистолет.
Резвый конь вынес Акинфия к ручью. Из трясин вытекал незамерзающий родник, подле пылал яркий огонек. Под еловым выворотнем у костра сидели двое.
Акинфий Демидов решил ехать на костер.
Навстречу ему у выворотня поднялся рослый бродяга с ружьем в руке и зычно крикнул:
— Кто идет? Эй!
Акинфий неторопливо подъехал к костру; над огнем висел котелок, кипела вода. За костром сидела освещенная пламенем чернобровая девка с пухлыми губами, над ними чуть темнел пушок. Она пугливо разглядывала вершника.
Держа наготове ружье, щетинистый рыжеусый бродяга исподлобья поглядел на Акинфия. Демидов заметил на бродяге добрый полушубок, пимы да заячий треух. По одежде видать — исправный мужик.
«Кто знает? — подумал Акинфий. — Может, это и не бродяга, а дальний посельник, а девка — то женка».
И вдруг Акинфий припомнил старое. Где он видел эти зеленые кошачьи глаза да рыжие усы? Никак это преображенец? Ой ли?
— Бирюк! Изотушка! — крикнул Акинфий и спрыгнул с коня.
Детина опешил, опустил ружье:
— Акинфка, никак ты? Вот бес!
Оба крепко обнялись; девка суком поворошила костер, в густую синь вечера посыпались золотые искры.
— Вот где нам пришлось свидеться! — обрадованно сказал солдат.
— А это кто? — Акинфий завистливо поглядел на девку; молодка потупилась, над большими глазами затрепетали черные ресницы.
— Женка. Да ты погляди, какая кержачка. Эх, и бабу я достал, Акинфка! — похвастался счастливый солдат. — Весь Камень обошел, а нашел по себе. Аннушка, глянь на друга…
Молодка зарделась, махнула рукой:
— У-у… Пристал! Вода-то вскипела, аль толокно засыпать?
— Сыпь погуще…
От костра шло тепло; конь, опустив голову, пригревался. Под выворотнем были настланы свежие еловые лапы. Неподалеку потрескивало сухое дерево.
— К ночлегу сготовились, — пояснил солдат. — Ну, подсаживайся к огню.
Оба уселись рядом, крепкие, плечистые. Молодка пошевелила головешки в костре, молчала да исподтишка поглядывала то на мужа, то на гостя…
Мужики разговорились. Акинфий протянул к огню озябшие руки, растер.
— Каким лихим ветром занесло тебя на Камень?
— Подлинно, лихим. — Солдат разгладил рыжие усы: на его загорелых от морозного ветра щеках золотилась щетина. — От тебя не скрою. Сбег я из полку. Осатанело, во! Петлю накидывай, а жить хочется, ну, я и в бега. Убег без дум, без мысли. Может, то и озорство, ребятство. У царя руки длинные: куда податься? Пораскидал головой, поглядел на следы других и по ним подался на Каменный Пояс, в раскольничьи скиты… Я сам — кержак, вон оно что, брат!
Акинфий повернулся к лошади, а сам быстро взглянул на молодку: щеки у нее вспыхнули.
Солдат продолжал:
— Скитался я по раскольничьим скитам; старцы укрывали да пересылали один к другому. Да… Кержаки — народ крепкий, прямодушный. Думал я: что будет? Идти спасаться, а может, полесовать? На спасенье — у меня кровь горячая, отвернет. Ну, так полесовать надо… Вот и ходил я по лесу да по скитам. Привольно, душе легко; лучше и не надо. В кержацком поселке на свою Аннушку набрел… Не смерзла, Аннушка? — Солдат ласково поглядел на женку. Она повела плечами:
— Что ты! Аль я старуха какая…
— Вон как, горячая моя. А ты слушай…
На Акинфия опять навалилась тоска: за костром ровно дышала кержачка; на голове у нее заячий треух, из-под него выбилась прядь кудрявых волос.
— Счастливый ты, — позавидовал Акинфий солдату.
В ближнем ельнике завыл волк. Молодка подняла румяное лицо, сдвинула густые брови.
— Поразвелось проклятых…
— То к рождеству волчьи свадьбы, — пояснил солдат. — Теперь их самая волчья пора. Так вот… Набрел я на Аннушку и разом по хорошей жизни затосковал. Надумал я двух зайцев ухлопать. Знакомо тебе, что бирючи на Москве кликали: «За объявление руд от великого государя будет прощенье и жалованье». Вот оно как!
Акинфий вспыхнул, в сердце всколыхнулась жадность. Впился глазами в солдата:
— Так ты что ж?
Кровь в жилах Акинфия приостановилась, он затаился. Солдат весело подхватил:
— А то ж! Две выгоды: прощенье, и добытчик буду! Полесовал я: белку да соболя бил, да на руду набрел…
— Где? — прохрипел Акинфий, глаза помрачнели, руки задрожали.
— На Тагилке-реке, а где — не скажу…
— И чего нахвастал, — шевельнула бровями Аннушка. — И не ты нашел, а батя… А может, ничего и не было. — Она наклонилась и тихо дернула солдата за полушубок: — Ишь, развязал язык…
— Эге, еда готова, садись есть! — весело закончил солдат и взялся за котелок.
Ели торопливо, молча, обжигаясь. Акинфий еле сдерживался: на демидовских землях какой-то беглый солдатишка открыл руду, у кержаков раздобыл девку-красавку… Ух-х…
Демидов пригласил лесовиков:
— Поедем ко мне в гости?
Солдат ел проворно, двигались крепкие скулы; поперхнулся.
— На том прости, нам некогда. На объявку торопимся. Утречком и поспешим дале…
После ужина солдат притащил бревно, положил его вдоль логова и разжег.
— Ну, а теперь на роздых… Спать — оно будет тепло…
Солдат сразу захрапел, — словно камнем ко дну пошел. Женка посапывала, потом подкатилась к солдату, заснула крепко.
Синие огоньки пламени бегали, лизали сухое бревно. Конь дремал стоя. Один Акинфий не спал; он поднял голову, долго смотрел на женку. Спокойное лицо ее было приятно. Рядом храпел солдат, во сне он жевал, и острый кадык его ходил ходуном.
«Так ты и бабу и руду захапать? — зло думал Акинфий. Темная и страшная мысль обожгла его: — А ежели разом и ни руды тебе и ни бабы…»
Опять на Демидова нашло томленье, и в то же время в груди поднималась лютая злость:
«Ишь пес, на демидовское богатство руки потянул, а ежели, скажем…»
Акинфий встал, лицо разгорячено; он поправил бревно, голубые языки огня стали длиннее, ярче. Он прошелся по тропке, поднялся на шихан; перед ним лежала падь, крытая лучистым снегом. С темно-синего неба из Млечного Пути на оснеженную землю сыпалась звездная пыль. Демидов снял треух, приложил к голове горсть снега, но разгоряченная кровь, однако, не остывала.
«Он же человек, — убеждал себя Акинфий. — И каждый свое счастье ищет».
Но тут же со дна души его поднимался злой, безжалостный голос:
«Ну, и пусть ищет подальше! Земли наши, наведет он сюда крапивного семени, потеснят нас… Ежели хочешь хозяйничать, Демидов, сердцем каменей…»
Он и сам не помнил, как снова очутился у костра. Солдат раскинул руки, рыжие усы от храпа шевелились. Женка уткнулась носом, спала спокойно. В руках Акинфий держал треух и охотничий нож. Он задел ногой солдатскую походную сумку, из нее вывалился рудный камень.
«Наша руда…»
Синие огоньки пламени гасли, костер смежил голубые глаза. Акинфий подошел к логову, стал на колени, взмахнул ножом.
— Господи…
Солдат дернулся и затих. Стало страшно, задрожала рука.
Женка спала спокойно, крепко. Акинфий оттащил солдата за ноги, положил на коня. Без тропы, через ельник, через глубокий снег отвез тело на реку и бросил на лед.
— С водопольем пошли ему, господи, путь дальний, — перекрестился Акинфий. — Прощай, приятель…
Не глядя на реку, Акинфий на коне вернулся к костру. Конь захолодал, дрожал мелкой дрожью. Женка все еще спокойно спала… На строгом лице кержачки блуждала счастливая улыбка…
Зимний день сумрачен: из-за снежных туч тускло глядит солнце. Вратарь открыл ворота, и в Невьянск на башкирском коне въехал Акинфий Демидов. Сторож подивился: на коне позади Акинфия сидела заплаканная молодка.
Привратник согрешил, подумал:
«Приволок молодец бабу. Знать, закружит коромыслом».
Никита Демидов не подивился молодке, но встретил Акинфку сурово. Молодку отвели в маленькую горенку, холопка принесла есть, но кержачка до еды не дотронулась. Села на кровать, незряче уставилась в угол, так и просидела весь день…
Батька заперся с сыном в горнице с каменным сводом. У порога на волчьей шкуре лежал пес. В печке потрескивали дрова.
Никита опустился на скамью:
— Ну, сказывай, как дела?
У Акинфия забилось сердце, но, сдерживая себя, он спокойно рассказал отцу о просеке к Чусовой.
Тут взор его разгорелся, он рассказал про встречу с солдатом и о рудах…
Никита встал, прошелся по горнице.
— Мохнорылый, а чужое добро задумал огребать. Ты что ж? — В глазах Никиты стояла ночь. — Бабу уволок, а о рудах не подумал?
— Батюшка! — Акинфий упал в ноги отцу. — Батюшка, согрешил: убил я солдата, оберегая наше добро… Страшно мне от крови. Кажись, и сейчас горит сердце… Первый мой грех…
Никита поднял за плечи сына, успокоил: