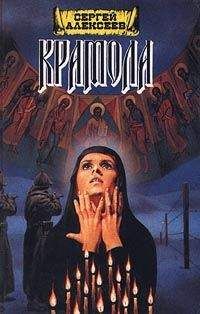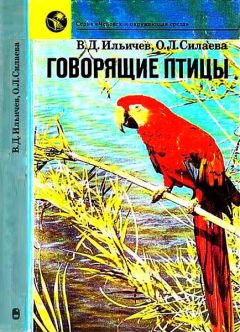Шиловский выпил вина и, достав ключи, стал отпирать сейф, вмонтированный в стену. Друзья его вдруг засобирались уходить. Березин тоже поднялся, однако Шиловский запротестовал:
— Нет-нет! Остался еще один торжественный ритуал! Прошу обождать. — Шиловский вернулся с картонной коробкой и торжественно извлек из нее маузер в деревянной колодке. — Сегодня только узнал случайно, что вам не выдали оружия, Андрей Николаевич. Узнал и обрадовался. А то все раздумывал: что бы это подарить вам на прощание? Что можно подарить революционеру?.. Примите, Андрей Николаевич. От чистого сердца!
Андрей взял колодку и, ощущая тревожную страсть, словно перед атакой, вынул маузер. Последний раз он держал в руках оружие перед тем, как пойти в баню после карательной экспедиции на Обь‑Енисейский канал. Тогда его разоружили.
Сейчас вооружали. Маузер был новенький, небольшого размера, но оттягивал ладонь. На месте деревянных накладок рукоятки — видно, был приготовлен загодя! — благородно поблескивала отшлифованная черепашья кость.
Полковник Березин прибыл в свою вотчину в туманный полдень, когда от лютых крещенских морозов замерзали на лету воробьи. Никто его не ждал и не признал в лицо, поскольку ехал он в медвежьей полости с верхом да еще завернутый с головой в лисью доху. Он остановился у печального пепелища на месте отцовского гнезда, не выбираясь из кошевы, мрачно поглядел на огарки бревен и заснеженную печь, затем велел ехать на кладбище. Там он постоял у родных могил, вытер леденеющие на щеках слезы и отправился пешком по селу. Березино в тот час словно вымерло, лишь дымы стояли над крышами да собаки брехали на задворках.
Тогда он стал заходить в избы. А к первому зашел к Мите Мамухину, потому что вдруг увидел резные наличники от своего дома, наложенные кое-как на крохотные оконца, а возле ворот — полузанесенного снегом гипсового льва. Митя в тот момент спал на полатях, сын его, Ленька, — на печи, и лишь в углу под иконами сидела и пряла дочь Альбина. Полковник Березин поздоровался и снял шапку.
— Вставай, батяня, — даже не взглянув на гостя, окликнула дочь. — Это по твою душу пришли. Вставай, родимый, да мужайся.
Митю Мамухина обычно трудно было добудиться, а тут он как-то сразу очнулся и, свесив голову с полатей, долго смотрел на вошедшего. И вдруг признал:
— Барин! Михаил Иванович! Вот так гостенек пожаловал!
— Не радуйся, тятя, — осадила его Альбина, по-прежнему глядя в угол, где на гвоздике висела куделька. — Не радуйся, а плачь и проси пощады.
В этот момент с печи слетел Ленька, замахал полами тулупа и унесся в двери. И скоро крик его разорвал зимнюю дрему:
— Плачьте, люди! Просите пощады! Молитесь!..
Потом говорили, что людям в тот миг послышалось, будто в небесах, туманных и морозных, запела труба. Все проснулись от ее звука и обмерли, завороженные…
— В доме моего отца брал что-нибудь? — спросил полковник Березин.
— Да самую малость! — покаялся Митя Мамухин. — Мне ничего и не досталось, всё расхватали…
— Как же ты на грабеж-то решился? — вздохнул полковник.
— Дак этот наустил, ссыльный!
— У тебя же своя голова на плечах.
— А я — как все, — нашелся Митя. — Народ кинулся, и я туда… И то проспал, одни тяжелые предметы остались.
— Сегодня все отнеси назад, — велел Березин. — Потом нарубишь розог и жди своей очереди.
Полковник ушел, а Митя запряг лошадь, оторвал наличники, погрузил льва и поехал на холм. Тем временем Березин обошел все дворы, и народ потянулся на пепелище. Заскрипели на морозе сани, груженные скарбом, заохали, застонали бабенки, таща на плечах и саночках тряпье, зеркала да тяжелое медное литье. Только вот уже ни лошадей, ни скота у березинских не осталось: коров да молодняк прирезали на мясо, кони либо пали, либо взяты были по мобилизации. Как пришло, так и ушло…
Несли добро, сваливали возле заснеженной печи, а сами скорей за ворота. Всем было приказано розги рубить. Полковник Березин вытащил из кучи потертые уже барские стулья с бархатной обшивкой, поставил в рядок, чтобы человеку лечь, а сам с помощью солдат взгромоздил кресло на русскую печь, забрался туда и сел, завернувшись в доху. Солдаты облили керосином имущество и подожгли. Потом началась экзекуция.
Огонь разгорелся так, что рядом стоять было боязно, волосы трещали. Березин приказал мужикам раздеться до исподнего и стоять пока возле костра, дожидаясь очереди. Мужики, смущенные и послушные барину, входили в ворота, винились, раздевались и, подрагивая от холода, жались к огню. Полковник не куражился над ними, не издевался и не насмехался, когда очередной укладывался на барские стулья. Он будто из нужды совершал экзекуцию: коли положено виноватых пороть, так куда денешься. Говорили, что иные даже слезы на глазах барина видели. И будто он даже сказал однажды:
— Сгубили народ православный. Тысячу лет жила душа — и в один год пропала. Сгубили.
Экзекуцию совершали солдаты. Они грели розги над огнем, чтобы распаривались и не ломались мороженные, и пороли. Мужики кряхтели, терпели, а потом, одеваясь и глядя в землю, просили:
— Уж прости нас, Михаил Иванович, спасибо, что ума вставил.
Митя же Мамухин прикорнул у себя в санях и оказался последним. Когда дошел черед, солдаты уже притомились, да и имущество в костре догорало. Похлестали его кое-как, и полковник рукой махнул: дескать, хватит ему. Экзекуторы потолкали Митю — не встает.
— Вы что же, подлецы, насмерть его забили? — рассердился барин Михаил Иванович
— Да вроде дышит ваше высокоблагородие, — растерялись палачи.
Прислушалась а он спит, да еще похрапывает в обе норки. Солдаты засмеялись, растолкали его, встряхнули, и тут Мамухин вскочил, дико на всех посмотрел, потом вдруг плюнул в сторону барина, заругался и закричал:
— Смерть эсплататарам! Долой власть помещиков и капиталистов!
Народ, уже выпоротый, одетый и повеселевший, и слово не мог сказать от неожиданности. Полковник Березин велел вновь уложить Мамухина и всыпать уже как следует. Минут двадцать солдаты махали розгами — даже вспотели. Митя же Мамухин, встав, снова плюнул на печь:
— Не долго вам на тронах восседать! Грядет ваш смертный час!
Березинские сгрудились вокруг места экзекуции и застыли в изумлении: обликом-то вроде Митя, а по глазам и xapaктеру совсем другой человек.
— Дак он, мужики, рехнулся! — догадался кто-то. — Вся ихняя семейка полудурки А он вот чистый дурак сделался…
Митю в третий раз уложили. И теперь солдаты пороли так, что в одних гимнастерках на морозе остались. Бабы его уж жалеть стали:
— Батюшко Михаил Иванович! Да уж отпусти его, не забивай. Эвон не в себе он! Дак чего ненормального-то учить? Ужо пожалей!
Отпустили Мамухина из-под розог, но он вскочил на стул — босой, в исподнем, и к народу обратился:
— Что же вы терпите узурпаторов, люди?! Мы — не рабы! Доколе еще ходить будете в ярме и кланяться врагу трудового крестьянства? Или мало пролили крови и пота за царскую власть?
И дальше понес в таком же духе. Березинские только рты разинули и совсем окостенели на морозе. Полковник же спустился на землю и сел на стул радом с митингующим Митей Мамухиным. Некоторые потом говорили, будто он плакал и от слез вся борода обмерзла. Когда речь Митина иссякла, а народ даже не шелохнулся и голоса не подал, Мамухич разгневался, столкнул барина со стула и сам тут лег.
— До смерти порите! — крикнул он солдатам. — Лучше смерть, чем с таким народом жить!
Березинские, видя такое, испугались, попятились со двора, кинулись прочь — только пятки засверкали. Солдаты, накинув шинельки на плечи, поглядывали на полковника — что прикажет? Да и розги кончились, одни охвостья под ногами.
— Бейте! — орал им Митя — Порите насмерть, холопы! Да здравствует свобода!
Один солдат рубаху на Мите отвернул — может, рогожку подложил, бывало и такое, — нет, голая спина, синяя вся и yже пухнет, как подушка. Полковник Березин присел перед Митей на корточки, в лицо заглянул, но тот отвернулся.
— Ты же всегда тихий был, незаметный, — сказал полковник. — Я тебя хорошо помню.
— Был да сплыл! — резанул Митя Мамухин. — Убивай скорей! А то я теперь делов натворю!
— Нет, живи…
Полковник встал и велел солдатам одеть Мамухина. Солдаты насильно запихали его в штаны и пимы, натянули драный полушубок и кушаком подвязали.
— Эх-х, разбудил ты меня, — только и сказал Митя. — И еще пожалеешь, что не запорол.
И ушел со двора какой-то непривычно валкой, медвежьей походкой. Один из солдат незаметно для полковника вскинул винтовку, но затвор замерз, и ударник «пошел пешком» — выстрела не получилось. Солдат хотел перезарядить, дернул затвор, да выбрасыватель не сработал, другой патрон уткнулся. Полковник заметил это и молча ударил солдата в лицо. Тот упал в снег, заворочался, закорячился, поднимаясь, но так и не встал, отчего-то заплакал.