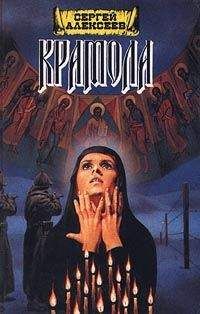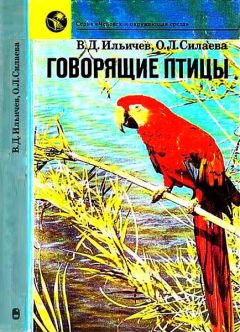Первый раз Мамухин штурмовал город с ходу. Подошли ночью почти к самой околице, поставили пушки, зарядили «шрапнелью» — битыми чугунками и сковородками, а с рассветом шарахнули по Есаульску так, что у самих уши заложило. Однако не медля развернулись цепью и пошли в атаку. Но в городе гарнизон большой был: около двух батальонов пехоты и эскадрон кавалерии. Так что внезапное нападение не увенчалось успехом и пришлось отступить в тайгу. Зато провели разведку боем и попробовали неприятельскую силу. Пожив месяц в тайге, партизаны привели себя в порядок, разузнали, где размещаются казармы, и решили пойти на приступ с другой стороны, откуда их совсем не ждут. Опять подошли ночью, изготовились, зарядили орудия, но палить не стали, а запустили в город человек двадцать партизан, чтобы они шуму там наделали и вызвали гарнизон на открытый бой. Иначе, стрелять «шрапнелью» по Есаульску — только порох переводить. Крыши издырявили да стекла в окнах повыхлестали. Лазутчики проникли к казармам, дали несколько залпов и побежали. Горнизон поднялся «в ружье» и кинулся догонять партизан. А те навели их на засаду. Тогда и пригодилась «шрапнель». Пушки ахнули по живой силе противника, выбили сразу человек тридцать. Тут-то партизаны и пошли в наступление. И погнали неприятеля. И уж почти до есаульского базара догнали, но в этот миг вылетела навстречу конница, потом автомобиль с пулеметом, и пришлось оставить занятые улицы, а на них — человек пятнадцать убитыми и раненными.
Пришлось снова уйти в тайгу, чтоб сделать передышку и прикинуть, как лучше овладеть Есаульском. И тогда Мамухин смекнул, что без кавалерии города не взять. Отрядил он десяток партизан в свои села, чтобы собрать коней и провести дополнительную мобилизацию взамен погибших бойцов. А пока ходоки ходили, пришел в отряд незнакомый человек и сказал, что он комиссар из Центросибири и явился, чтобы узнать, что это за отряд штурмует город Есаульск. Мамухину в то время не до комиссаров было, партизаны приуныли после неудачи и потерь, и надо было поднимать боевой дух. А незнакомец все липнет и липнет с вопросами. Потом и вовсе рассердился и начал приказы отдавать, чтобы Мамухин немедленно подчинился Центру партизанского движения и шел бы «за тридевять земель» — к «чугунке». Там, мол, настоящая война, а ты на кой-то ляд город штурмуешь. А Мамухину после полковничей порки слова поперек не скажи. Собрал он партизан на митинг и объявил народу, чего пришлый требует. Мужики загудели — не пойдем, далеко, а скоро хлеб жать, и так все лето бьемся-воюем.
— За что же вы бьетесь?! — закричал комиссар. — За какую власть? Кто вы такие? Какой партии?
Мужики злые были, ему бы не кричать, а лучше уйти восвояси, но комиссар с характером попался, завел мужиков.
— Мы за свою власть бьемся! — закричали они. — Все воюют, а мы что, рыжие? И мы воевать будем! Нам надо Есаульск захватить!
— На что он вам сдался?! — взорвался пришелец. — Подумайте своими дремучими мозгами!
— Мы выполняем светлую мечту партизанского вождя Анисима Рыжова! — с достоинством ответил Мамухин. — А ты иди отсюдова, а то стрельнем тебя, и дело с концом.
— Да он неприятельский лазутчик! — загалдели мужики. — Хочет угнать нас к «чугунке», а там мы погибнем, и хозяйства наши защищать будет некому!
Тут Мамухин понял, что если отпустить комиссара, то он снова придет и других приведет. И начнут они буянить в отряде и железную дисциплину ломать.
— Шпион, говорите? — спросил у народа Мамухин.
— Шпион! — заорали мужики.
Мамухин достал наган и застрелил пришельца. Тот и рта не успел открыть. Партизаны вдруг стихли, стушевались, но смолчали: сами же кричали — шпион… А у командира глаза загорелись, лицо обтянулось, будто головка сапога на колодке. Он понял, что трудно будет поднять партизан на штурм в третий раз, если они не испытают, что такое победа. И повел отряд брать село Усть-Повой. Опять установили пушки у околицы, послали бойцов шуму наделать и, выманив взвод противника из села, пальнули по нему из укрытия. Кто живой остался, из винторезов перехлестали. И вошли в Усть-Повой походным порядком. Мамухин сразу же начал собирать трофеи и проводить конную мобилизацию. Прочесали богатые дворы, добыли семнадцать лошадей, хлебом разжились, мукой и картошкой. Запрягли телеги и ходки, погрузили добро, и через два часа их и след простыл. Обрадовались партизаны, вдохновились, повеселели:
— Теперь-то уж враз Есаульск возьмем!
Но гарнизон в городе привык к нападениям, все время начеку сидел и оборонялся. Два дня вели партизаны позиционную войну, весь пушечный порох истратили, все чугунки и сковородки перекололи на «шрапнель», а Есаульска так и не взяли. Попрятали орудия в тайге и подались домой — хлеб убирать.
Потом Мамухин штурмовал Есаульск и в октябре, и в ноябре, уже по холоду, но противник не желал зимовать под открытым небом и город не сдавал. А партизаны мерзли у костров, по шалашам, и тут уж либо Есаульск бери, либо домой на зимовку уходи — на печи греться. Попробовали еще раз Усть-Повой захватить, и захватили, да из Есаульска двинули против них четыреста штыков, так что едва ноги унесли.
И лишь знаменитый декабрьский штурм увенчался наконец успехом. Ударили на сей раз сразу с четырех сторон, но оставили «прореху» для отступления неприятеля. А в горле той «прорехи» спрятали пушки. «Шрапнели» больше не было, так зарядили «картечью» — крупной отсортированной галькой. К тому времени две деревянные пушки разорвало и артиллерии поубавилось, но зато появился пулемет английского образца, случайно найденный в санях у проезжего мужика. Коня, сани и пулемет реквизировали, но мужик не пожелал расставаться со своим добром, купленным на ярмарке за пять пудов хлеба, и пошел партизанить к Мамухину на установленный срок, пока не захватят Есаульска.
Атака удалась: противник хлынул в «прореху», напоролся на засаду, понес большие потери и стал сдаваться партизанам. Но Мамухин решил никого не брать. Всех сдавшихся он отпустил. Однако к ночи они вернулись в город и стали проситься в плен, поскольку кругом было холодно. Их прогоняли в тычки, пленные не уходили, отчаянно матерились и совестили победителей:
— Мать вашу так! Да вы че, на самом деле? Не русские, что ли, не православные? Пустите хоть погреться!
Взяв Есаульск и став комендантом, Мамухин сразу же завел себе пару выездных коней, выбрал из трофеев медвежью доху, лисью шапку и маузер. На следующий день он провел парад своего воинства, издал npиказ о военном положении, по которому запрещалось передвижение гражданских лиц по центральной улице, ибо на ней проходили строевые занятия.
В самый разгар победы и славы в отряд Мамухина прислали еще одного комиссара. Приехал он с красным знаменем и со свитой лихих кавалеристов, торжественно вступил в занятый партизанами Есаульск и остановился возле штаба. Караулы, видя такое важное представительство, пропустили приезжих. Мамухин вышел на крыльцо и в первый момент обомлел: ему-то доложили, будто прибыл новый комиссар, а перед ним в окружении всадников гарцевал на горячем жеребце ссыльный студент Пергаменщиков! Вскипел комендант, сердце огнем налилось: вот он, извечный враг коварно и предательски погибшего славного вождя Анисима Рыжова! Живой и здоровый стоит, в черную кожу, в собачью доху приоделся, но шарф на шее все тот же, изжеванный и засаленный. Нет, как только посмел явиться сюда, где анафеме был предан и заочно к смерти приговорен?! И ведь еще улыбается, вошь неподавленная!
Мамухин пересилил свой гнев — негоже терять свое партизанское достоинство перед каким-то студентишкой! Заложил руки за спину, покачался на носках белых бурок и велел приезжим спешиться. Посыльный комендант, сын Анисима Рыжова, вынес из штаба доху, набросил Мамухину на плечи.
— Смотри, — сказал ему комендант. — Перед тобой враг крестьянского большевистского дела и всего человечества — ссыльный Пергаменщиков. Гляди, какой он есть.
Посыльного — а было ему лет тринадцать — аж передернуло, и рука потянулась за винтовкой: от покойного отца еще слышал эту фамилию, от матери, когда Анисима Рыжова в кандалы забили и угнали на каторгу. Вся боль и беда шли от этого человека, все детское горе им замешано, выпечено, подобно караваю, и теперь есть не переесть горького хлеба. Наверное, прямо бы с крыльца и саданул его из винтореза отчаянный парнишка-посыльный, да Мамухин остановил, утешил:
— Потерпи… сынок. Мы его самым страшным судом судить станем. Самой страшной смертью карать.
Свита Пергаменщикова спешилась, лошадей к коновязи потянула, но сам «студент» все еще гарцевал, похлопывал жеребца по шее, жмурился на солнце.
— Узнаете меня, товарищ Мамухин? — спросил он.
— Признал, признал, — сквозь зубы выдавил комендант Есаульска.
— Комиссаром в ваш отряд послан, — заявил Пергаменщиков. — Из центра. Прошу любить и жаловать.