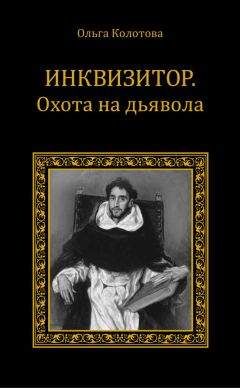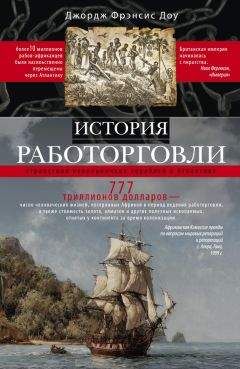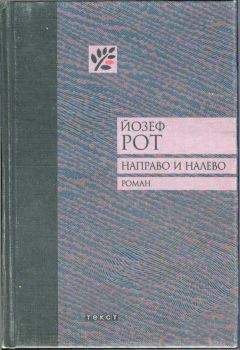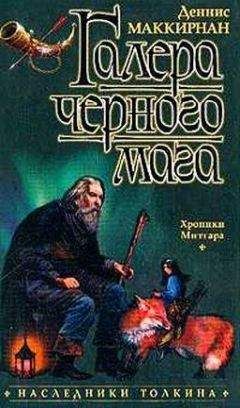— Ах, вот оно что! Ты едва сумела избежать участи обвиняемой, как сразу же решила принять участие в процессе в качестве свидетельницы! Замечательно! Великолепно!
Бартоломе сам не ожидал от себя такой вспышки гнева.
— Вон отсюда! И не смей приближаться к этому зданию ближе, чем на тысячу шагов! Здесь все, все — коридоры, залы, камеры, стены, столы, стулья — все перепачкано грязью и кровью! Я не затем вытащил тебя отсюда, чтобы ты снова сунула голову в петлю! Вон отсюда! Вон!
Он схватил ее за плечи и почти вытолкал из зала. Кажется, он готов был ее ударить, даже занес руку… И в этот миг увидел ее глаза, глаза, полные слез, глаза, в которых отражались удивление, обида и боль. Она даже не пыталась сопротивляться.
— Я хотела помочь вам, — только и сказала она.
Бартоломе опомнился. Он так редко терял самообладание, что сам удивился.
— Боже мой, — прошептал он, — кажется, я схожу с ума из-за всех этих чертей… И из-за тебя тоже! Пойдем отсюда!
— Куда?
— В сад. Там ты мне все расскажешь. Только не здесь… Ради Бога, не здесь!..
Они спустились в монастырский парк и теперь мирно, рука об руку, шли по алее. Бартоломе невольно отметил, что за время их разлуки девушка, как будто, еще больше похорошела. Исчезла бледность, вызванная заключением и скудной пищей, на щеках Долорес вновь заиграл румянец, а в глазах временами вспыхивали озорные огоньки.
— Итак, что же ты видела?
— Черта!
— Где?
— На кладбище.
— На кладбище?! За монастырем святого Франциска?
— Да!
— Черт побери, что ты там делала?
— Молилась на могиле бабушки.
— Когда… когда это было?
— В среду.
Бартоломе облегченно вздохнул: убийство было совершено в четверг.
— Обещай мне, что никогда больше не пойдешь туда!
— Почему? — она остановилась и посмотрела ему в глаза. «Вы боитесь за меня? Вы и в самом деле испугались за меня? Или мне это только показалось?»
«Девочка, неужели ты не видишь? Я не вынесу, если с тобой еще раз что-нибудь случится. Я и так страшно виноват перед тобой. И, возможно, я не смогу спасти тебя вновь».
— Почему? — настойчиво повторила она.
— Ты сама знаешь, на улицах города сейчас небезопасно, — произнес он, и удивился, что говорит совсем не то, что хотел бы сказать. — Тем более, я не советовал бы тебе появляться на кладбище. По крайней мере, обещай мне, что не пойдешь туда одна, и вообще не будешь выходить из дома по вечерам одна, без защитника, без провожатого.
— Обещаю, — улыбнулась она. — Моим защитником вполне мог бы стать Рамиро, он такой сильный!
— Хорошо, — тихо согласился он. — Пусть будет Рамиро.
От нее не укрылось прозвучавшее в его голосе недовольство.
— Нет, — продолжала она, как будто рассуждая сама с собой, — пожалуй, Рамиро не будет моим защитником, потому что…
«Потому что я знаю только одного человека, с которым не страшно идти по ночным улицам, с которым вообще ничего не страшно», — мысленно закончила она.
— Потому что?..
— Потому что им вообще никто не будет! — вдруг рассмеялась она. — Я никуда не выхожу из дома по вечерам. То есть… выходила всего два раза. Первый… ну, вы знаете… А второй… я пошла на кладбище, чтобы спросить совета у моей бабушки…
— Разве мертвые могут дать совет?
— Кажется, его не могут дать даже живые!
Бартоломе резко остановился.
— Долорес, — сказал он, — если тебе когда-нибудь потребуется помощь, хоть делом, хоть словом, советом… ты всегда можешь рассчитывать на меня!
Но Долорес, казалось, теперь мстила ему за прошлые унижения.
— Уж не хотите ли вы опять предложить себя в качестве… исповедника?
— В качестве друга! — ответил Бартоломе. — И в качестве защитника!.. Если ты, конечно, позволишь, — вдруг тихо добавил он и взял ее за руку.
Она вздрогнула, но руки не отняла. И вновь ей овладело уже знакомое чувство странного притяжения, которое, как будто, исходило от ее спутника, и роковой неизбежности, одновременно пугающей и манящей. Он стоял так близко, что Долорес казалось, что он слышит, как громко и взволнованно стучит ее сердце, слышит каждое ее дыхание, каждую мысль…
— Святой отец…
— Долорес!
— Что это вы здесь делаете, брат мой? — раздался вдруг за спиной у Бартоломе вкрадчивый голос.
Бартоломе оглянулся: перед ним стоял брат Эстебан — тучный обладатель бесшумной походки. Песок не зашуршал под его ногами, ни одна веточка не треснула, когда он подходил… А может, Долорес и Бартоломе просто ничего не замечали вокруг…
— Что вы тут делаете?
— Исповедую свою духовную дочь! — раздраженно ответил Бартоломе.
— Должно быть, очень она согрешила, уж слишком она выглядит смущенной, — заметил толстый монах.
Бартоломе с удовольствием задушил бы сейчас брата Эстебана.
— Да, да, конечно, — широко улыбаясь продолжал толстяк, — у брата Себастьяна много духовных дочерей, и в Барселоне, и в Валенсии… В Гранаде он, говорят, весьма успешно обращал магометанок… Что и говорить, святой человек!
— Готова в это поверить! — щеки Долорес вспыхнули. Кажется, если бы такое было возможно, она провалилась бы сквозь землю от стыда и обиды.
— Простите, что задержала вас… Но я и вправду думала, что могу вам помочь!
Она отступила на несколько шагов и вдруг выкрикнула:
— Я не хочу быть одной из ваших… духовных дочерей! Прощайте!
И она бросилась прочь по аллее.
— До свидания, — сказал ей вслед Бартоломе.
— Напрасно вы ее отпустили, — покачал головой брат Эстебан. — Упрямая. Упорствующая.
— Я опять не смог ее удержать — отозвался Бартоломе, отвечая на собственные мысли, чем на замечание брата Эстебана.
— Не стоит быть таким снисходительным.
— Что же мне оставалось?
— Вздернуть на дыбу или накачать водой, что же еще остается в таких случаях?
Несмотря на раздражение, Бартоломе не удержался от смешка. Брат Эстебан, как всегда, думал о пытках!
— Вот что, брат мой, — обратился к нему Бартоломе, принимая свой обычный насмешливо-холодный тон, — зная ваше рвение и то, что из ваших рук уж наверняка никто не ускользнет, я поручаю вам завтра поутру допросить старого аптекаря, которого подозревают в торговле ядами, и францисканского монаха, повинного в содомии.
— Да, да, брат мой, — промямлил толстяк и заметно скис.
Бартоломе, наверное, возненавидел бы брата Эстебана, появившегося так некстати, если бы тот не внушал ему отвращения. Нельзя ненавидеть слизняка, им можно лишь брезговать.
* * *
— Первому стражнику ты расквасил нос, второму выбил зуб, а третьего и вовсе искалечил — у него вывихнута челюсть, — перечислил Бартоломе. — Зато четвертый не сплоховал: оглушил тебя сковородой.
— Он подкрался сзади! — процедил сквозь зубы Диас.
— Ну, конечно, иначе тебя никому было бы не одолеть! — усмехнулся инквизитор. — Пришлось пойти на хитрость.
Антонио Диас наградил Бартоломе злобным взглядом.
— Меня связали, как барана, и притащили сюда, как мешок!
— Что делать, если ты не пожелал идти сам, — пожал плечами инквизитор. — Сам виноват.
Диас высокомерно промолчал. Правда, сохранять достоинство в помятом и растерзанном виде вожаку контрабандистов было довольно трудно. На лбу у него вздулась шишка, один глаз заплыл, разбитые губы распухли, растрепанные волосы торчали во все стороны. Левый рукав рубашки был почти оторван и каким-то чудом висел на нескольких ниточках, правый вообще отсутствовал. Вдоль предплечья тянулись глубокие кровавые царапины.
— Устроил драку в таверне, — продолжал Бартоломе, — оказал неповиновение страже, избил служителей закона, то есть, в конечном счете, проявил крайне непочтительное отношение к нашей святой матери-церкви. Нехорошо, сын мой.
В ответ Диас разразился площадной бранью, поминая Пресвятую Деву и всех святых.
— Заткнись, сын мой! — сказал Бартоломе. — Или посажу в тюрьму за богохульство!
— Да уж, во всяком случае, не за контрабанду! Мои парни мне все рассказали: не было никаких ядер, не было никакого пороха!
— Не было, — согласился Бартоломе. — Поэтому сейчас мы и поговорим совсем о другом.
— Я ни о чем не буду с вами разговаривать!
— Между прочим, наш договор еще в силе, — напомнил инквизитор, — чистосердечное признание или тюрьма.
— В чем я должен признаться на этот раз?!
— Скажи-ка, что ты думаешь о смерти Педро Рамиреса?
— Ах, вот значит как, — растягивая слова проговорил Диас. — По-вашему, выходит, вонючего старика укокошил тоже я?
— Вот это я и хочу выяснить.
— Черт побери, вы меня совсем замучили! — вдруг закричал Диас. — Что вам от меня надо, в конце концов?! Хотите посадить — ну так посадите, заприте в подземелье, закуйте в цепи, наденьте на меня кандалы, свяжите, заткните мне рот, казните наконец, тысяча чертей! Только отвяжитесь! Оставьте меня в покое, слышите?! Или…