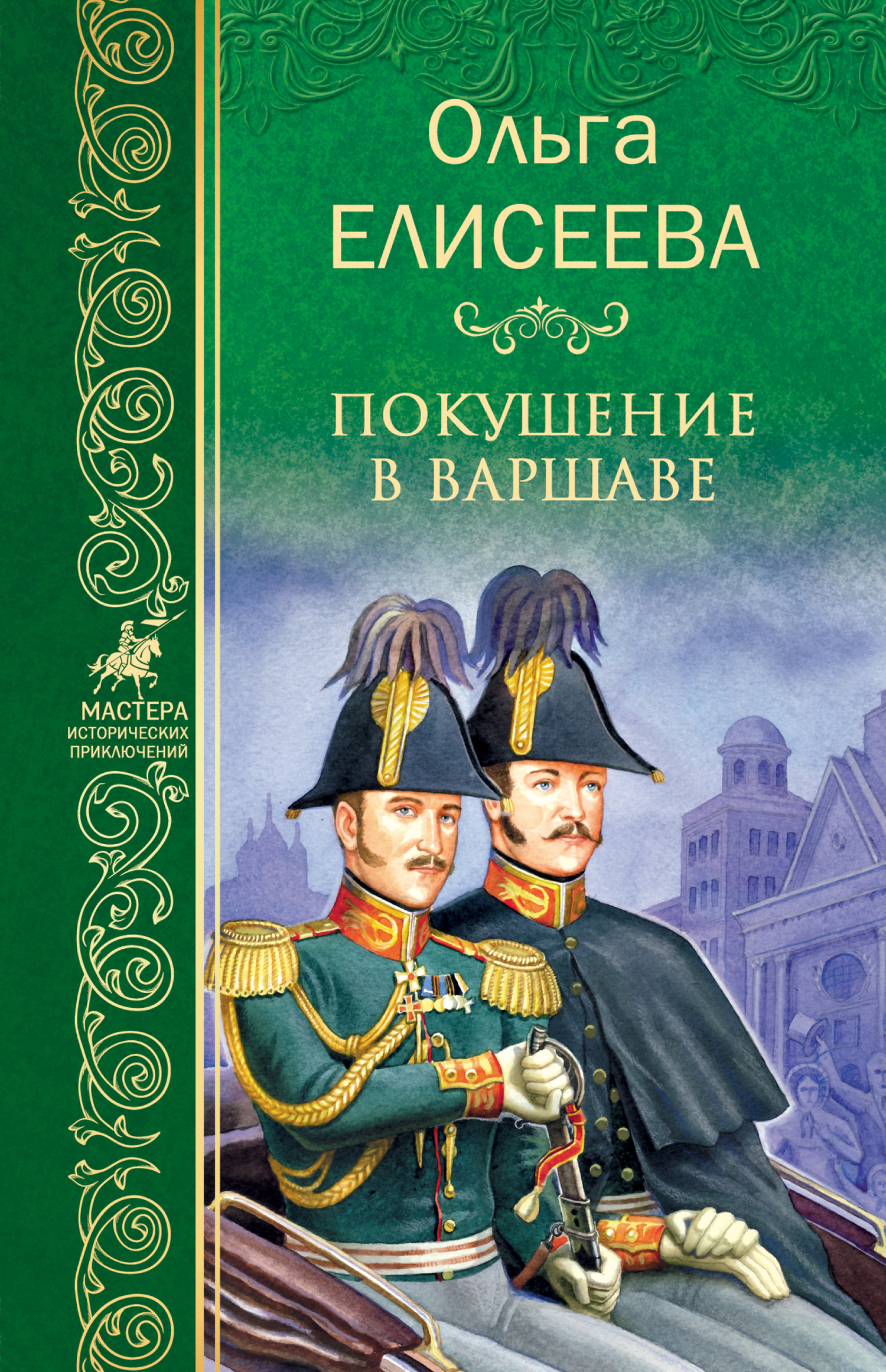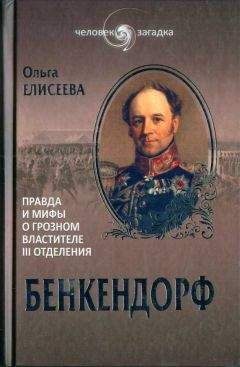жене пить кофе. Как обычно. Хотя уже недели полторы манкировал этим обыкновением. Но Шарлотта, вот милая душа, каждый день приказывала накрывать за маленьким круглым столиком два прибора. И ждала.
В половине двенадцатого она тихонько вздыхала, наливала себе английского чаю из фарфорового чайника с синим жуком и начинала потихоньку отхлёбывать. Глоток, другой, пауза. Взгляд на дверь. До ломоты в ушах прислушивалась к шагам в анфиладе. Готова была, как школьница, вскочить на скрип лестницы. Только бы под родными ногами!
Он не шёл. Боялся. Увидит — не сдержится. А ей казалось: из равнодушия. И даже отвращения. Между кожей и костями она не могла нагулять и дюйма плоти. Потому и выкинула последнего младенца. С этого начались врачебные консилиумы, закончившиеся приговором.
Двенадцать ударов. Никс никогда так не опаздывает. Он точен до умопомрачения. Минуту лишнюю пережить не может. Для неё самой, хоть бы все часы шли по-разному. Нет беды. Для него битьё и кукование с разницей в несколько секунд — нестерпимая катастрофа. Нарушение порядка. Караул! Подрыв основ империи. Домашний заговор. Поэтому все часы шли в ногу, как солдаты. И раз отмерили полдень, значит, поздно. Не придёт.
Шарлотта чуть не заплакала. Схватила с блюда эклеры, его любимые — с заварным кремом, глазурью и сахарной пудрой. И стала обеими руками запихивать себе в рот. Врачи запретили жидкое? Вот она ест твёрдое и жирное. Неужели не пополнеет?
Молодая женщина давилась и ела, размазывая по лицу слёзы пополам с сахарной пудрой. За этим занятием её и застал муж. Никс растворил дверь и в удивлении уставился на супругу. Нетрудно было догадаться, что подвигло её на подобный шаг.
— Ты запивай иногда, — с участием сказал он. — Легче проскакивает.
Шарлотта вздрогнула от неожиданности, поперхнулась, закашлялась. Кусочек попал не в то горло. Государь схватил жену за талию и с силой стукнул по спине. Злополучный кусочек непропеченного теста выскочил на ковёр.
— Я только хотела… Ты не думай…
Вечно она извинялась, хотя ни в чём не была виновата.
— Что-нибудь осталось? — Никс сел за стол, придвинул блюдо и знаком приказал налить себе чая. Жена поспешила.
— Я уезжаю, ты знаешь, — начал он веско, — и хотел бы, как обычно, просить тебя…
Перед его отъездами они всегда говели вместе. Потом исповедовались, и его величество катил куда угодно с лёгким сердцем.
— На театре военных действий, — попытался объяснить он, — всякое может…
Сама Александра Фёдоровна бывала слишком слаба, чтобы поститься. День-два, не больше. Но вместе с мужем, если надо, отважилась бы и на Великий пост. Она бы с ним и на Монблан влезла в одних бальных туфельках.
— Я уже думала, ты не предложишь, — сказала Шарлотта, боязливо заглядывая ему в лицо.
— Почему? — Никс насупился, отлично зная ответ.
Жена быстренько замотала головой, заранее отрицая любые упрёки. Государю стало стыдно, он положил ладонь ей на руку и почувствовал, будто коснулся раскалённого железа.
— Мы в последнее время отдалились. Не по нашей вине, — поспешил добавить он. — Ведь решение было общим…
Кому здесь врать? В их доме всё, всегда и за всех решал он.
— Я хотел бы просить вас, — Никс непроизвольно перешёл на французский, словно вспоминая те времена, когда только ухаживал за ней. — Окажите мне честь, несмотря на погоду. Совершите со мной путешествие в Петергоф. Перед отъездом нам стоит посмотреть, как идёт строительство в верхнем парке.
Шарлотта задохнулась от неожиданности. Конечно, она поедет. Пусть пока ещё ветер с реки и дорога не слишком покойна для экипажа…
— Мы поедем на пироскафе. Море уже утихло.
Александра Фёдоровна чуть не захлопала в ладоши от удовольствия. Морская прогулка!
— Мне взять сопровождение?
— Как можно меньше.
Никс тоже обрадовался. Она не дулась. Не отталкивала его, а принимала всё как есть. За это муж был очень благодарен. Он и сам пока не знал, что и как у них будет, но желал подбодрить супругу видом строящегося дома. Хотя какой теперь дом?
На другой день небольшой пароходец под гордым именем «Богатырь», благоухая древесным углём и горячей водой, разыгрывал роль придворной яхты. Рано утром, не дав жене как следует выспаться, император вступил на борт, держа её под руку. Она касалась пальцами шляпки на беличьем меху и не без опаски переставляла ноги по сходням. Близорукость мешала Шарлотте хорошенько видеть дорогу. Но чуть только Нева раскатилась перед глазами ртутным простором, молодая женщина вскрикнула от восхищения и подставила бризу щёки.
— Мадам, — ласково сказал ей муж, — спуститесь в каюту. Ветер крепчает.
— Нет! — воскликнула она. — Напротив, друг мой. Пойдёмте на нос!
— Нельзя, моя радость, ты простудишься.
Обычно она подчинялась. Легко и безропотно. Но не сейчас. К чему теперь беречь здоровье?
А что будет, если она снова заболеет и, наконец, умрёт? Он испытает облегчение? Нет, конечно, сначала будет горевать. Кидаться на стены. Но потом… Когда боль притупится, не окажется ли, что своей смертью она оказала ему услугу? Развязала руки. Дала свободу.
Александра Фёдоровна стояла у бортика. Ветер раздувал над её головой огненно-рыжую газовую шаль, которая дарила её бледным щекам отсвет румянца. Но сейчас её лицо горело само по себе, и она едва ли не с гневом обернулась к мужу.
Никс не понял её взгляда, ему казалось: всё хорошо.
— Ты хочешь, чтобы меня не было? — вдруг спросила она достаточно громко, чтобы перекричать ветер.
— Что? — не разобрал государь.
— Хочешь, чтобы я умерла? — ещё громче выкрикнула Шарлотта.
До него не сразу дошёл смысл.
— Скажи только слово. — Её ноги едва касались палубы. Руки крепко сжимали бортик. При высоком росте стоило только перегнуться.
Никс успел испугаться. Успел, подавшись вперёд, крепко схватить жену за бока. Она едва не выскользнула из его рук.
— Что ты делаешь?
Кто бы ответил? Шарлотта обмякла, затихла в его объятиях. На минуту опять забилась, как птица со сломанным крылом, заплакала и, только примостив голову у него на груди, успокоилась, время от времени глубоко, до икоты вздрагивая всем телом.
Её было жалко. Но ещё пуще жалко себя.
— Мы переживём, — уговаривал муж. И она простодушно верила ему, как верила всегда, с первой до последней минуты.
К полудню пироскаф был в Петергофе и причалил у шатких мостков Монплезира. Как они любили этот дворец! Не большой, не главный, жирно вызолоченный пряником на Пасху. А маленький, у самого моря. С галереей, мыльней, множеством стёкол, гнутой крышей и заревом заката во всех окнах по вечерам.
Шарлотта говорила, что единственная громоздкая вещь, которую она готова терпеть, — это муж. Ей хотелось иметь небольшой уютный домик для одной семьи.