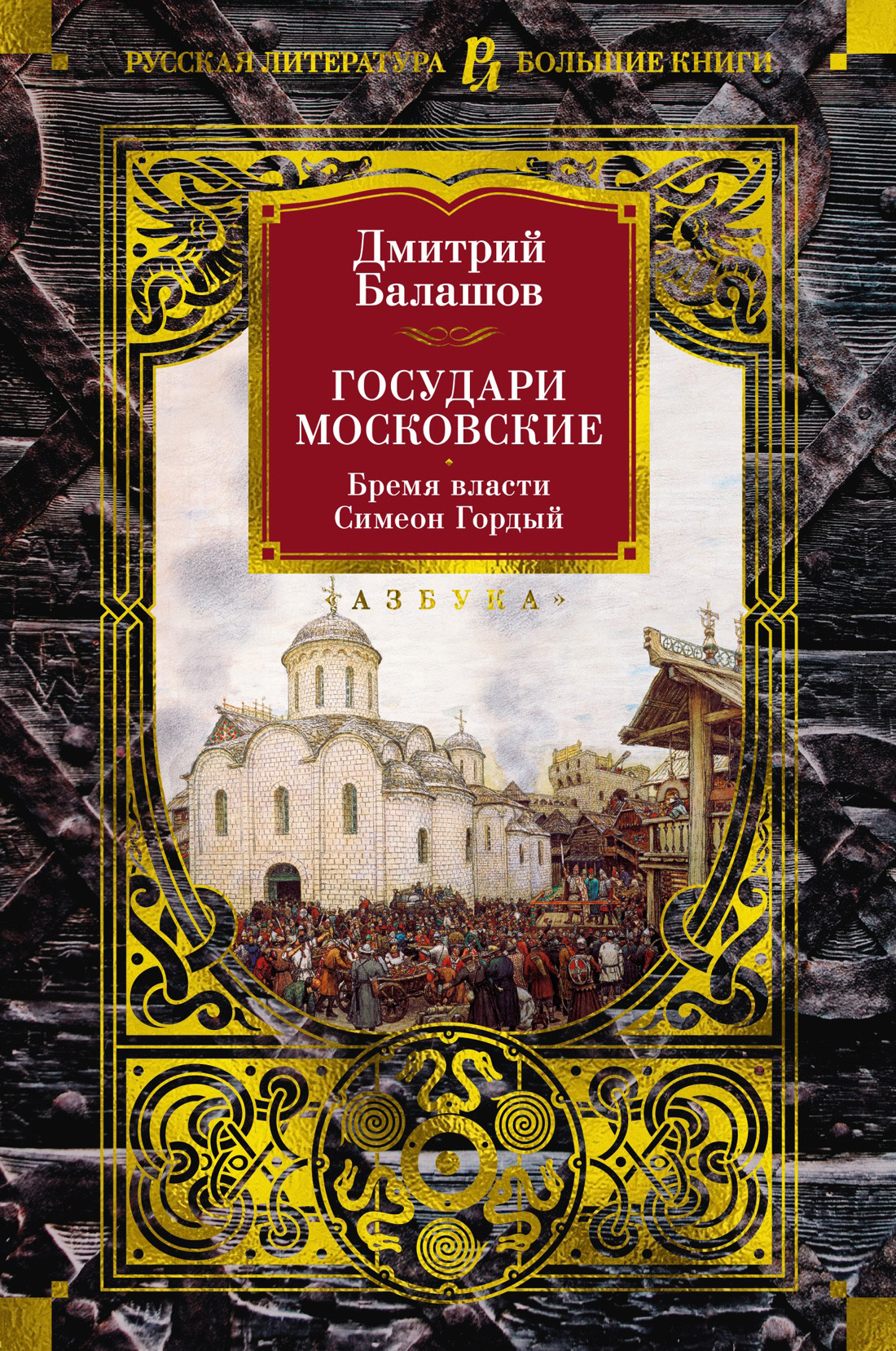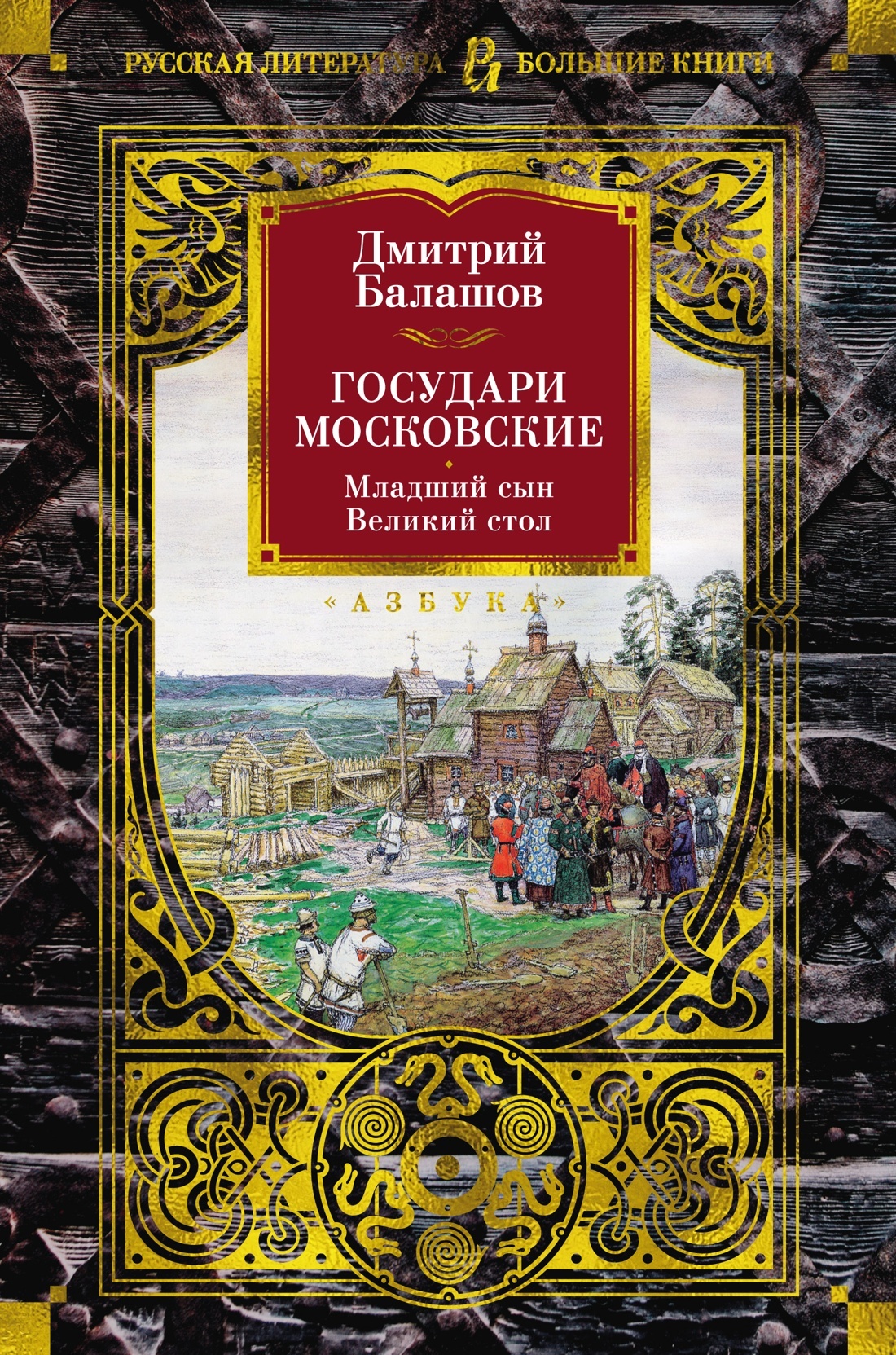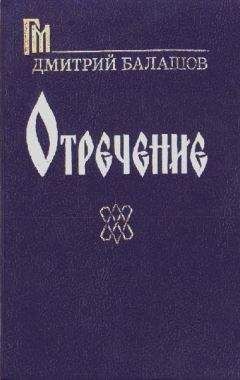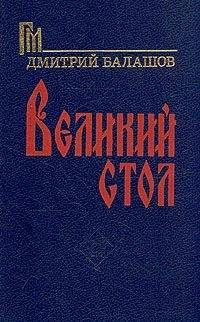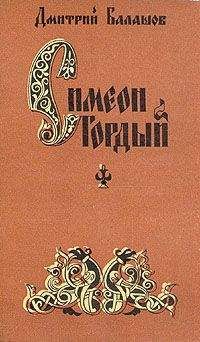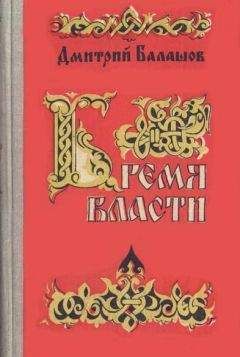Овчинный, по грехам, пропал как раз в ту пору.
Несколько месяцев прожив в одиночестве, Сергий, увидев в березках бродячего мниха, явно направлявшегося к нему, помнится, так обрадовался человечьему голосу, что не захотел узреть ни вороватой оглядки, ни излишней льстивости, ни осторожного вопроса о богатом покровителе монастыря. Чая обрести в захожем брате сотоварища, он от сердца накормил его хлебом, ягодами и кореньями с малого своего огородика, стараясь не замечать ни жадности, с коей брат поглощал пищу, ни брюзгливости, явившейся в нем тотчас с сытостью. Освоившись, отогревшись у печи, которую он топил не переставая, пока Сергий хлопотал по хозяйству, носил воду и разметал двор, брат принялся свысока поучать Сергия:
– Ты ищо молод! – (Разумелось, что и несмыслен разумом.) – Монастырь должон иметь богатого покровителя! Вот я был… – Он поперхнулся, невнятно произнеся название монастыря. – Дак то монастырь! Каких рыбин привозили к столу! Осетры во-о-от такие! Страшно и позрети! – Он щурился на огонь, причмокивая, вспоминая, верно, обильные трапезы. На вопрос Сергия, почто же брат тогда ушел из монастыря, вскинулся яро: – Пошто ушел! Пошто ушел… Завистники… Отцу иконому не приглянись, оногды и не евши просидишь… Довели!.. Да и вклад тамо…
Сергий чуть улыбнулся, смолчав. Подумал, что здесь, в лесу, захожему брату скоро придется понять, что не в рыбах и не в покровителях заключена суть монашеской жизни.
Назавтра брат пошел было на работу вместе с Сергием, но скоро устал, ссылаясь на застарелую нутряную болесть, все посиживал да посиживал, глядя, как Сергий неутомимо палит и валит лес.
– И работать как дурной! – ворчал он вечером. – Мнихи рази так работают? Мнихи Господа молят, вот!
Однако и молитвы вместе с Сергием брат не выдержал. Начал сперва переминаться с ноги на ногу, потом опустился на колени и даже лег на пол, словно бы от молитвенного усердия, тут же, впрочем, едва не всхрапнув, и наконец, пробормотав: «Пойду лягу», выбрался из церкви.
Когда Сергий воротился к себе, брат уже спал, накинув и подложив под себя все, что было теплого в доме. Сергий не стал тревожить его, улегшись на голый пол.
На третий день брат заскучал. Заметив, что Сергий вновь сряжается в лес, пробормотал, отводя глаза:
– Ты поработай, а я помолюсь за тебя!
Сергий знал, уходя, что видит его последний раз. Знал, но не придал веры знанию своему… С годами это внутреннее знание все укреплялось и укреплялось в нем, и он уже и сам полагался на него и не ошибался после того разу никогда. Он, помнится, еще кинул взгляд на свой овчинный зипун – захотелось взять с собою, – но отдумал, да и устыдил себя. В тот день Сергий рубил лес до вечера не переставая (с собою была взята краюха ржаного хлеба). Когда, порядком уставши, он явился наконец домой, брата не было и не было полумешка муки – последнего, как на грех! И не было овчинного зипуна. Без муки до нового привозу Сергий еще мог просуществовать: толочь заместо муки липовую кору ему уже приходилось; потеря зипуна в чаянии близких морозов была страшнее. Пока, впрочем, хватало суконной рабочей свиты, и Сергий, рассчитав сроки, порешил, сократив даже несколько служебный устав, сугубо налечь на дрова, чтобы, когда грянут морозы, не было нужды уходить далеко в лес.
К слову сказать, нового овчинного зипуна Сергий так и не завел. Притерпелся, привык и позже даже предпочитал сероваленую суконную сряду овчине…
Брат этот научил его многому. И не то что недоверию. Постановив в сердце своем всегда доверять людям, Сергий доверял им и впредь, но отроческое, радостно-светлое ожидание добра от всякого встречного прохожего неприметно перешло у него в требовательно-настойчивую мягкость пастырского началования, в то, что позже называли в Сергии строгостью. Он понял, что редкий человек не нуждается в понуждении внешнем и лишь немногие, подобно ему самому, дерзают сами создавать себе это понуждение.
В первую зиму у Сергия дров до весны не хватило. Пришлось бродить в лесу по пояс, а то и по грудь в мокром снегу, рубить и таскать полусгнивший валежник. Нынче запас был отменен, тем паче что он и не баловал себя излишним избяным теплом.
На морозе дрова кололись легко, правда, иные дерева не враз поддавались его секире. Приходило соразмерять силу удара с твердостью – на глаз – очередной колоды. Сергий заметил, что, расколется или нет полено, он знает уже в тот миг, когда топор падает вниз, еще не коснувшись дерева. Он приодержался, попробовал приказывать топору, но сразу же ничего не получилось. Тогда он вновь отдался работе свободно и вновь почувствовал, что знает, расколется или нет очередное полено, еще до удара. Он даже усмехнулся радостно, когда понял: знание приходило и здесь, в этом простом мужицком деле, не от головы, не от хитромыслия, а от сердца. И знание это было безошибочным. Еще до удара… Да, нужна и сила, и навычка, и топор нужен, но еще до удара и – безошибочно! Он уже давно нарубил потребное дню, но продолжал и продолжал вздымать секиру. Росла груда наколотых дров – и росло прозрение. Он точно знал, что полено расколется (или нет), до удара. Каждый раз. Без единой ошибки.
Не тако же ли и на рати? – пришло ему на ум, и Сергий вновь приодержал вздетый топор. Не тако же ли и ратный труд?! Пото и пишут на иконах скачущих в сечу со вздетыми саблями, а инех валящихся от не нанесенного еще удара… Такожде и на ратях! Да, конечно! Духовно победоносны еще до сражения, и победители до победы, и сраженный падает (начинает падать), не тронутый еще валящимся на него мечом… Такожде!
Он вновь стал рубить, и ликующая сила приливала к плечам: такожде!
Уже до боя (и, верно, может быть, и без боя!) побеждают правые. Пото и одоляют един тысящу, а два – тьму. В духе причина всего: и воинского одоления на враги, и царств одержания, и даже столь малого дела, коим он занимает себя сейчас. «Гонимы гневом»… Воистину! И это – главное! Дух, коему подчинена плоть. Всегда подчинена! Нет слабых духом, есть ленивые, есть лукавые духом, есть высокоумные, без сердца тщащиеся познать истину. Но ежели дух устремлен и полон веры, плоть, ведомая им, победоносна всегда, еще до деяния, до боя, до удара, так же точно, как точно каждый раз он, опуская секиру, еще не коснувшуюся дерева, уже ясно знает, расколет или нет очередной чурак.
Вечерело. Далеко в морозном ясном воздухе