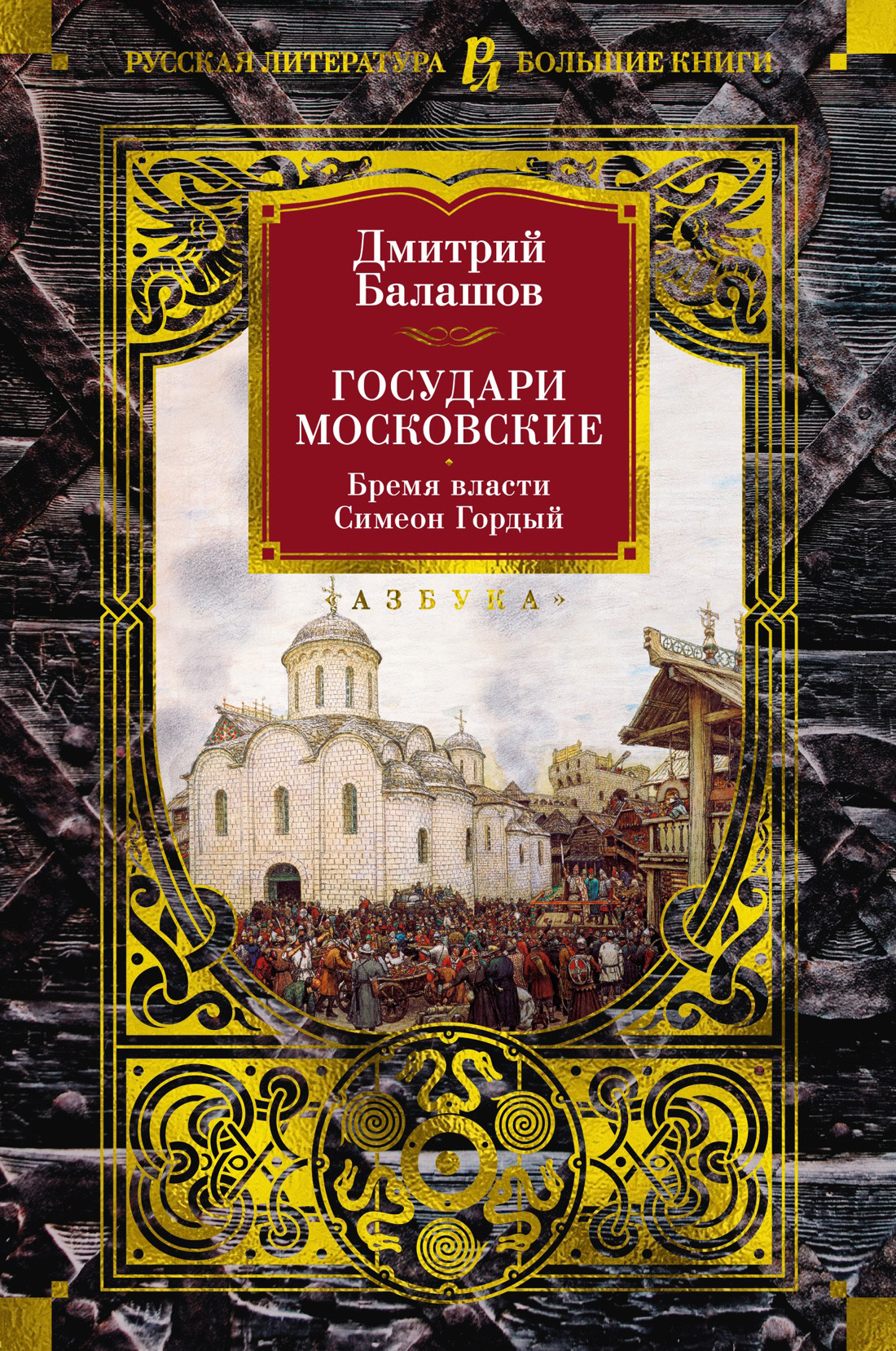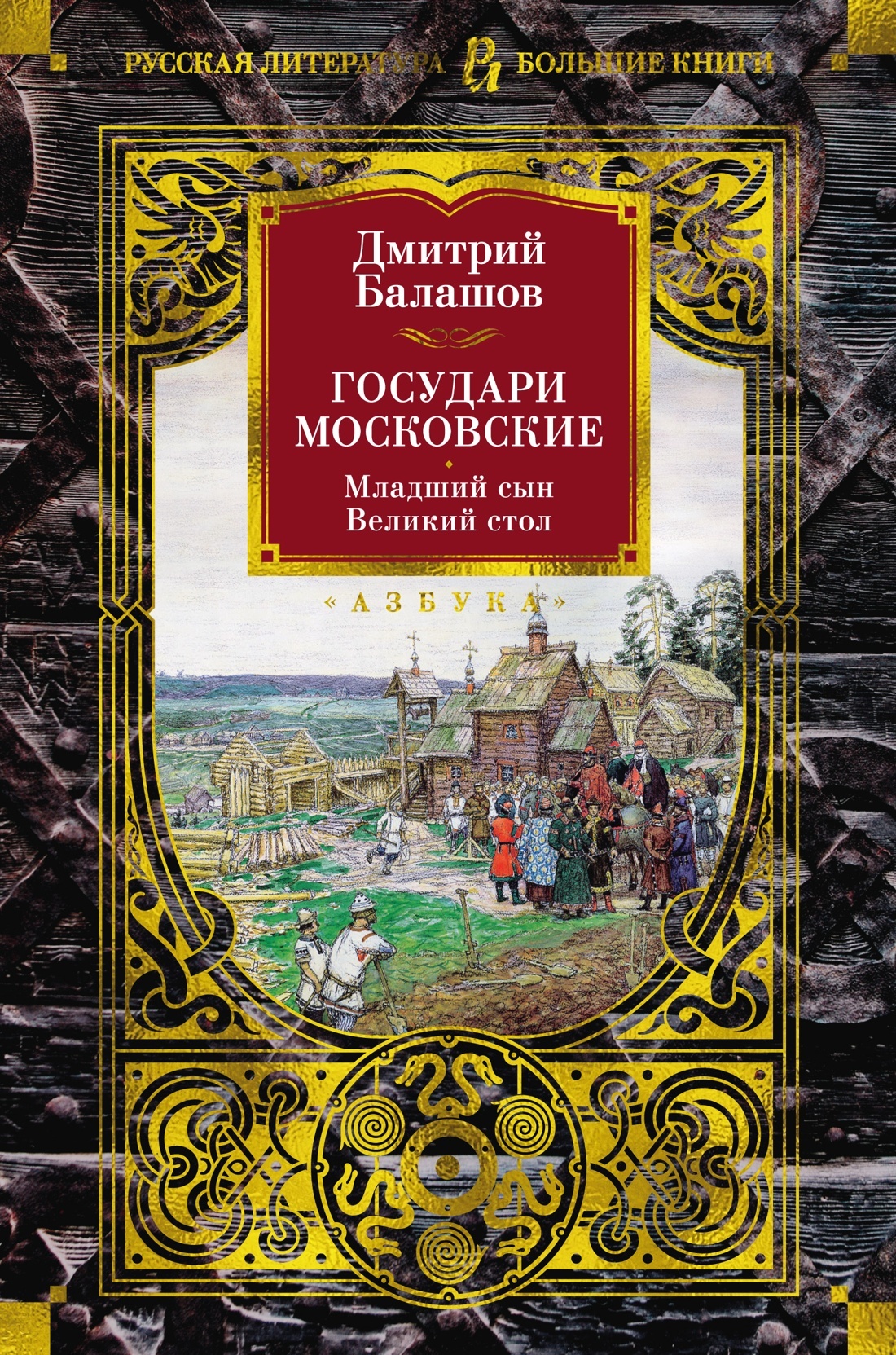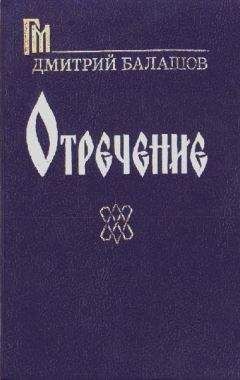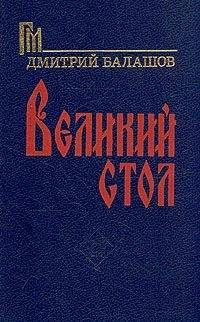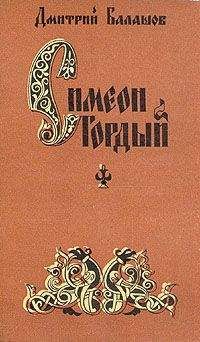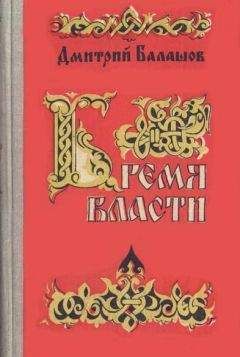Чти! Надобны верные кмети. Скорей!
Вот так Никита, Мишуков сын, случившийся в эту ночь в дозоре дворца, получил свою первую княжескую службу.
Мельком взглянув на разбойную рожу невысокого ухватистого молодца и смутно догадав, что уже где-то встречал его и даже вроде беседовал, Семен поворотился к троим прочим, обозрев каждого с ног до головы. На него глядели бедовые обветренные морды привыкших к делу, а не словам молодцов, из тех, верно, что лазят по ночам, мало не задумывая, через тыны в терема посадских жонок, да ерничают, да пьют, да славно дерутся в кулачных боях на Москве-реке. Вот каковы посланцы его мечты и любви! Ну что ж, скачите быстрее ветра! Награда от князя великого – серебро да лихая выпивка в молодечной – сожидает вас на Москве!
Трещал смолистый факел. Жаркие горячие искры огня с шипением падали на снег. Мороз крепчал – солнце из утра вставало с ушами, – а теперь, под высокими звездами ночи (далече, словно стоны немазаного колеса, разносит скрип шагов по снегу), верно, и вовсе озверел. Вона как стягивает кожу лица и леденит руки!
– Одюжат молодцы? – спросил невольно.
– Выдюжим! – осклабясь, ответил невысокий за всех, и прочие готовно закивали головами: мол, не впервой!
В свете факелов выводили храпящих дорогих княжеских коней. Кабы не честь княжая – сам бы поскакал ныне вослед! Дорогую грамоту при серебряной печати протянул тому, запомнившемуся. Никита готовно принял, спрятал в кожаный кошель на гайтане, засунул за пазуху.
– Преже голову потеряю! – успокоил князя.
Посажались верхами. Тронули, все убыстряя и убыстряя бег. Вот исчезли из светлого круга, вот гулко протопотали в отверстом зеве ворот. Семен почуял вдруг, что пальцы рук уже ничего не чуют и уши тоже. Зачерпнул снегу, растер то и другое, перевел плечми. Зверел мороз! Как-то доскачут молодцы? С неохотою пошел назад, в терем, зная уже, что всю ночь не уснет.
Никита, проезжая мост, надвинул до самых бровей мохнатую шапку. Ветер резал лицо. Конь скакал, храпя, наматывая мордой. Морозные иглы льда забивали ноздри скакуна.
Сонною улицей – рогатки уже были убраны перед ними по слову тысяцкого – проминовали Москву, и началась, пошла ночная тверская дорога. До первой подставы, до первой смены лошадей, двадцать ли, тридцать поприщ – никогда не считал! Ноне только подумал: не сломать бы ноги коню в потемнях!
Летел обжигающий воздух, летел темный надвинувшийся лес, и месяц, выплывший наконец из волнистой туманной гряды, летел перед ним в небесах да топот вытянувших в нитку вершников, что, не отставая, летели следом за ним. Никогда еще так не скакал Никита! Думал дорогою (лишь бы не упасть): вот так же, верно, и дедушко Федор в его молодые годы скакал по князеву делу отселева в Новгород или Кострому – хорошо! И было хорошо, хоть уже и не чуялось щек, и казалось: не топот коня и не дорога, не ветер, а летит встречу высокий надзвездный простор и его на коне несет в вечном холоде ледяных облаков, по дороге луны, над умершей, недвижной землей. И-эх, родимые! Ветер! Кони и ветер!
Пал, споткнувшись и захрапев, чей-то скакун. Никита не остановил, не поворотил лица. Скоро подстава, дойдет, коли жив! Трое теперь неслись сквозь мороз и ночь.
К первой подставе Вельяминов выслал вестоношу. Их уже ждали, держа в поводу коней. Шлепнув ком гусиного сала на рожу, проглотив огненную чашу горячего меда и бросив несколько слов об отставшем спутнике, Никита уже летел вперед, по-прежнему чуя за собою наступчивый стук копыт. Луна все так же бежала в небесах, и так же молчал промороженный зубчатый лес, и так же тек, обжигая почти уже нечувствительное лицо, ледяной воздух.
На второй подставе приодержали было. Но княжая тамга да окрик тотчас явили им свежих оседланных коней. Не разбирая ни лиц, ни рук, вырвал из чьих-то согретых пальцев теплый на ощупь повод, рванулся ввысь и, ловя стремя ногой, поскакал, яростно врезаясь в упругий игольчатый холод.
Небо светлело, бледнело, гасли звезды. Казалось уже: сойди с коня – и не устоять на ногах. На подставе на хриплый окрик простуженного горла, понявши, что гонец самого великого князя, его стащили с коня, влили в рот горячее душистое пойло и, не разговаривая много, вскинули в иное седло, продели ноги в стремена, и Никита, не чая уже, скачет ли кто-то за ним, вновь полетел в пустоту, холод и ветер.
От Москвы до Твери четыре дневных перехода. Двое суток скачут обычные вестоноши. Никита со спутником (и второй отстал-таки по дороге, свалившись с седла), закаменев и кошкою согнувшись в седле неведомо какого по счету сменного скакуна, на восходе солнца несся уже в виду города, и шарахали от него утренние крестьянские кони, сторонили возы, издали завидев летящего стремглав вершника (верно, уж ко князю самому, не иначе!), с криком шарахало воронье из-под звонких копыт, и близил, стоя, как на столбах, на высоких розовых дымах, уходящих неколеблемо в морозную высь, широко раскинувшийся тьмочисленным нагромождением изб, клетей, хором и амбаров великий город.
Под воротами скрестившей копья страже Никита не мог сказать ничего – свело челюсти. Подскакавший напарник выкрикнул строго:
– От великого князя володимерского!
Копья раздвинулись. Куда тут? Улица криво вилась вдоль высоких тынов. Но их уже встречали верхоконные и скакали сбоку и впереди. И так, вослед чужому коню, влетел Никита в ворота города в городе – княжьего дворца, не раз уже сгоравшего и вновь возникавшего из пепла, построенного впервые еще Михаилом Святым. Высокий собор, выше московских гораздо, высокие терема с многоразличными переходами, лестницами, кишевшие народом.
Он плохо видел – в ресницах настыл лед; сползая с коня, пал и не сразу сумел встать на ноги. Не чуя тела, шел, ослепший, готовый зарыдать, и не почуял, не понял сразу, что и к чему, попавши в медвежьи объятия Андрея Кобылы, который, крикнув в ухо ему: «Грамота у тя?» – и, получив в ответ беспомощный кивок, попросту сгреб гонца в охапку и понес на крыльцо, мигнув молодцам волочь туда же и второго иссеченного ветром и снегом московского ратника.
«Гонец! Гонец! От князя!» – потекло по ступеням хором. И Настасья, для которой этот третий день едва не стал роковым, горячо перекрестилась перед образом Богоматери и пошла встречать. Андрей Кобыла втащил за шиворот и поставил на ноги перед ней буро-бело-сизого, залитого не то тающею водою, не то слезами малого со скрюченными красными негнущимися пальцами, который косо начал рвать намороженные пуговицы ворота, раскрывал рот, бормоча