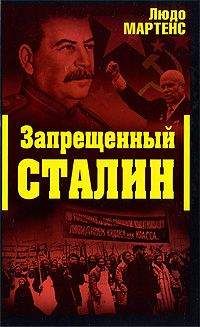Она требовательнее к нему, чем он сам. Возможно, тут играет роль разница в возрасте. Но, в конце концов, это не так уж плохо, если жена на два года старше мужа. И все же Есениусу порой кажется, что не два года, а два десятилетия разделяют их. По внешнему виду этого сказать нельзя. Она выглядит так же, как и все женщины ее возраста, ничуть не старше — где-то между тридцатью и сорока. Но какое глубокое понимание жизни в ее словах, когда она просто и трезво рассуждает о самом сложном Деле! Мария, конечно, уступает своему мужу в образовании, но она обладает удивительным свойством проникать в суть вещей; во многом Мария Фельс разбирается гораздо лучше, чем ее супруг, она ясно видит то, чего не видит он, и быстро схватывает, вернее угадывает, скрытый смысл явлений. Сколько раз ему приходилось удивляться той точности, с какой она выражала его думы, хотя говорил он совсем другое. Словно она читала его мысли.
И сейчас он понимал, что она права, но не хотел в этом признаться. Ему казалось — признай он ее правоту, и тогда ему ничем не доказать необходимость переезда в Прагу.
— Я не только врач, но и философ. Занимаюсь даже историей, а она теснейшим образом связана с политикой.
— Не вмешивался бы ты в политику, Иоганн, — тихо произнесла Мария.
Есениус вспомнил слова императора, которыми тот закончил аудиенцию, вспомнил его совет, вернее предостережение, — не заниматься политикой. И он рассердился на жену, пытавшуюся его образумить.
— Я не согласен с тем, что ученые не должны заниматься политикой. Я убежден, что человечество было бы гораздо счастливее, если бы его судьбами распоряжались философы, а не генералы и чиновники, которые осуществляют власть огнем и мечом. Не понимаю, почему бы я не мог посвятить себя политике…
Выражение лица Есениуса свидетельствовало о том, что он расстроен. Он не любил подобных разговоров. Ему казалось, что словно кто-то заглянул к нему в душу и обнаружил в ней нечто, что он пытался скрыть не только от людей, но и от самого себя.
Но Мария стояла на своем.
— Ты, значит не понимаешь, почему не должен посвящать себя политике? Хорошо, я тебе объясню. Знаю, ты будешь на меня сердиться, но я обязана тебе это сказать. — Лицо ее стало серьезным, а во взгляде, обычно таком кротком и нежном, появилась неожиданная твердость. — Да потому, что политику ты не считаешь средством помощи своим близким, а лишь средством своего успеха. Ты думаешь, что политика удовлетворит твое честолюбие скорее, чем наука. А я боюсь за тебя, Иоганн, страшно боюсь…
И слезы, хлынувшие из глаз Марии, обезоружили Есениуса. Он было собирался горячо возражать, доказывать, что она сшибается, что она плохо его знает, приписывая ему такого рода побуждения, но, когда увидел, как искренна она в своих опасениях, горячность его мигом исчезла. Он подошел к жене и крепко ее обнял:
— Скажи, чего ты боишься?
— Не знаю… Я не могу привести какие-либо разумные доводы, но все мое существо протестует, требует, чтобы я предостерегла тебя от этого шага. Поэтому-то я и Праги боюсь…
Есениус ободряюще похлопал ее по плечу и весело сказал:
— Пустые страхи! Вы, женщины, всегда придаете значение предчувствиям и всякой подобной чепухе. Обещаю тебе, для твоего спокойствия, что ни в какую политику я мешаться не буду. После такого обещания поедешь со мной в Прагу?
— А когда ты хочешь ехать? — ответила она вопросом на вопрос.
— Как можно скорее. Как только в университете изберут нового декана.
— Поедешь на авось? Хочешь сжечь за собой все мосты? А если ты не придешься ко двору?
Она была права. Ведь и в самом деле он ничего толком не знал. Ему обо всем придется договариваться в Праге. Пожалуй, надо сначала поехать одному.
Мария согласилась.
— Конечно, Иоганн, поезжай пока один. Приготовь все для нашего переезда и возвращайся за мной.
Так Есениус во второй раз отправился в Прагу.
Чем ближе была Прага, тем сильнее чувствовал Есениус. что какая-то тайная сила влечет его туда. Ему казалось. что кони тащатся словно улитки. хотя кучер без устали подгонял их и карета неслась так быстро, как только позволяло состояние дороги.
И, когда кучер остановил лошадей у ворот Праги, Есениус понял, что это странное беспокойство, которое гнало его вперед, было не беспричинным. От первых знакомых, встретивших его в Праге. Есениус узнал грустную весть: умирает Тихо Браге. Доктор не хотел верить, это было так непостижимо, так невероятно!
На четвертый день своей болезни Тихо Браге почувствовал, что близится его последний час.
Он попросил свою дочь Софию приготовить ему постель наверху, в обсерватории, а сыновей. Тюге и Йоргена, — перенести его туда. Конечно, сыновья охотно отговорили бы отца от этой затеи, но поскольку воля Браге в доме была законом, подобным всемирному закону, обусловливающему движение планет и звезд, им ничего не оставалось, как выполнить без возражений просьбу умирающего. Они понимали, что, если будут медлить, отец станет волноваться и состояние его здоровья еще больше ухудшится.
Тем не менее сыновья вопросительно поглядели на Есениуса и Кеплера — последний целые дни проводил у изголовья своего учителя — в надежде понять по выражению их лиц, должны ли они подчиняться требованию больного.
Есениус молча кивнул головой. Он понимал, что переселение Браге наверх в обсерваторию не ухудшит и не улучшит его состояния. Да и все понимали — и лучше всех сам больной, — что близок конец. Лицо его посерело, словно смерть уже набросила на него свою тень. Временами ему ясно казалось, что «черная пани» уже стоит у деревянной резной колонки, поддерживающей полог над широкой постелью, в которой лежит он, закутанный до подбородка в мягкие перины. Для чего Браге спешит в обсерваторию? Неужели хочет убежать от нее, от смерти? Нет, он хорошо знает, что это было бы напрасной попыткой. Смерти не избежать, даже если луч света унесет его на самую далекую звезду.
Нет, ему просто захотелось еще раз увидеть свои звезды.
Браге уложили на кровать под большим окном, через которое они с Кеплером так часто наблюдали ночной небосвод.
— Откройте окно! — попросил он слабым голосом.
Холодное дыхание октябрьского вечера распространилось по комнате и свежестью своей коснулось разгоряченного лба больного. На лбу блестели капельки пота, словно утренняя роса на стеблях травы.
Через раскрытое окно Браге увидел часть небосвода, знакомую по тысячам наблюдений, но каждый раз новую и милую, как образ любимого существа. Он успокоился. Когда его взору представал бесконечный звездный мир, Браге испытывал чувство, будто душа его освобождается от пут, которыми он был привязан к этой невзрачной планете Земле, являвшейся, как он думал, все же центром солнечной системы.
На чем же прервался ход его мысли? Ах да: смерти не избежать, даже если луч света унесет его на самую далекую звезду.
Мысль ускоряет свой бег, она несется быстрее света и старается преодолеть бездонную тьму ночи; лишь кое-где освещенную одинокими точками световых маяков, которые в действительности являются огромными мирами. Как бесконечно далека эта звезда! Ведь, по его подсчетам, самая близкая из них в три тысячи раз дальше от Земли, чем Солнце. Мысль, унесшаяся подобно стреле в пропасть ночи, возвращается назад. Падает, словно птица, разбившаяся в стремительном полете о неведомую преграду. Вечность и Бесконечность — Сцилла и Харибда, о которые разбивается корабль разума.
Совершив полет по Вселенной, мысль астронома возвращается в свою телесную оболочку. Скоро она освободится от этой оболочки,
«А потом, — думает больной, — я уже буду наблюдать Вселенную с другой стороны, со стороны звезд, и мне станет все ясно, как уже стало ясно тому поляку Копернику. Этот торуньский каноник стремительным полетом своего ума, самсоновской силою своего учения разрушил колонны храма старой науки, старого мира, но не успел достроить мир новый. А я всю жизнь метался между этими двумя мирами. Один мир — это Птоломей с учением о неподвижности Земли, другой — Коперник, утверждавший неподвижность Солнца… Кто из них прав?»
Этот вопрос все время возникает в сознании больного, и в лихорадочном круговороте дум его учение предстает перед ним вместе с учением Коперника. Он вот-вот готов был принять это учение, удивительно упрощавшее все проблемы, но собственные выводы, результат всей его жизни, восставали против этого, а вычисления убеждали, что торуньский каноник неправ. По крайней мере, кое в чем неправ. Где-то ошибается. Он хотел проверить учение Коперника собственными вычислениями, но не успел. И остановился на полпути. Он пришел к выводу, что Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн вращаются вокруг Солнца. Но Земля стоит неподвижно, и вокруг нее вращаются Луна и Солнце. Он не может отступить от своих взглядов, пока кто-нибудь математически не докажет обратное. Браге надеялся, что это удастся ему. Свыше двадцати лет он записывал данные о движении планет. И прежде всего данные о движении Марса, ибо путь этой планеты интересовал его больше всего. Это огромный материал, только надо его обработать, сделать соответствующие выводы. Но он уже не успеет их сделать. Может быть…