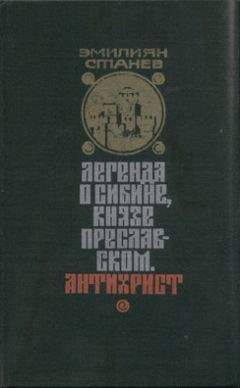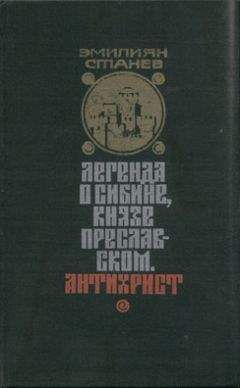Однажды ночью грек разбил моего красавца юношу, потому что Арма открыла ему, как он дорог мне. Еретики тоже ненавидели его. Калеко советовал мне его разбить, ибо властвующие ревнуют ко всему, что восхищает подвластных и говорит об иной правде, нежели их собственная. Тогда-то и зародилось во мне желание убить грека…
Панайотис и без того меня подстерегал, склонял Арму уйти от меня. И вот однажды утром, когда я ловил в речушке рыбу, Арма же в тени под ивами плела постолы из лыка, я увидал возле неё грека. Откуда он взялся — бог весть. Я бросил сачок, взял в руки лук, с которым не расставался никогда, спрятался за толстым стволом ясеня и крикнул Арме, чтобы шла ко мне. Увидав меня, Панайотис сунул руку под длинное свое одеяние, где прятал он ромейский меч. Приближался полдень, тени были короткие, солнечный дождь низвергался на лес, заливая полянки светом, так что видно было далеко вокруг. Грек что-то сказал Арме, она колебалась — то ли остаться, то ли пойти на зов. Я снова крикнул Арме, и она медленно двинулась ко мне. Грек пригнулся у неё за спиной, а потом с мечом в руке кинулся на меня. Либо не заметил он, что у меня лук, либо одурел от ненависти. Ворот у него был распахнут, из-под рыжей бороды выглядывала белая, не тронутая солнцем грудь, и туда-то я и прицелился. А стрела у меня была длинная, с совиными перьями, острие — как шило. Подпустил я его на пять шагов, натянул тетиву, она зажужжала, как шершень, а затем раздался негромкий вскрик. Панайотис привстал на цыпочки, рыжая борода задралась кверху, он выронил меч и обеими руками схватился за стрелу. Изо рта у него хлынула кровь, стрела не выдернулась, и он рухнул на колени. Я прикончил грека его собственным мечом…
Арма, увидав, что он мертв, кинулась к нему с проклятиями и рыданиями, взяла в руки его рассеченную голову и, обернувшись к башне, стала звать людей. Я ударил её по лицу, она упала, поняла, что я готов убить и её, и смолкла. Я приказал ей взять бывшего её сожителя за ноги, и мы снесли его в овраг на съедение волкам и лисицам. На обратном пути Арма спохватилась, что у Панайотиса были деньги, и заставила меня вернуться. Забрали мы его кошель с двенадцатью перперами и множеством медяков. Я отдал деньги ей и сказал: «Если выдашь меня — убью, а кроме того, ты соучастница, раз взяла деньги». Она поклялась молчать и, пока мы шли к реке, всхлипывала и поглядывала на меня, как побитая собачонка…
Не укоряю себя за Панайотиса, так же, как и за Доросия, и за Шеремет-бея и слуг его, коих я сжег живьем, ни за Асу, ни за агарян, коих убивал на гулянках, ибо Бог не дал мне ни мудрости, ни силы, чтобы поступать иначе в этом коварном мире дьявола…
М
Долгие недели снился мне грек, я во сне покрывался испариной и кричал — судила меня душа моя. Но утром просыпался оглохший от злобы и ненавидел Панайотиса ещё неутолимей. Я смеялся над прежним Эню, отрицал и презирал его. Так дело и шло, покуда не напали на селение разбойники, чтобы увести наших женщин. В лесах под Тырновградом скрывалось множество душегубов и грабителей. Царское войско было бессильно против них, ибо и десятоначальники, и сотники, и сборщики налогов тоже занимались разбоем, сами либо посредством наемников. Однажды вечером осадили нас в башне разбойники. Кричат: «Эй, поп, давай сюда женщин, тогда и мы станем вашими братьями!» Отец Лазар и Калеко увещевали их, просили уйти с миром. Мол, бедные мы, чем они поживятся у нас? А ежели хотят стать братьями, пусть бросят оружие и приходят к нам. «Живьем сожжем!» — пригрозили те и пошли в лес дрова собирать, чтобы поджечь башню. Калеко вооружил мужчин дротиками и луками. Мы встали у бойниц, и я выпустил стрелу одному в спину, другому в глаз, так что он подскочил и заверещал, как недорезанный козел. С того дня перестал мне являться во сне Панайотис, а из-за разбойников совесть меня не мучила. Когда они ушли, отец Лазар и Калеко стали дознаваться, кто же из братьев навел на нас разбойников, и дознались — тот, кто был одет в старое болярское платье. Однако ж человек этот уже исчез. Оставаться в селении было небезопасно, следовало уходить в другие края. Но на следующий день Калеко с двумя братьями ушли куда-то, а воротившись, сказали, что тревожиться не из чего — с разбойниками достигнуто перемирие. Потом узнал я, что отдали они им на разграбление одного богатого купца. Таков мир сей, «во зле лежащий». Создан он дьяволом для грабежа и дележки, чтобы всё живое брало и делило добычу, кормилось смертью и пожирало друг друга. Желчное веселье охватывало меня при этих мыслях, и наслаждался я своим безумием, как лев — силою. Арма стала мне рабыней. Так миновали осень и зима, когда моя распутница наконец понесла и стала умолять меня бежать от субботников. «Знаю я, — говорит, — в горах одну деревушку. Купим на деньги Панайотиса домик. Обвенчаемся и заживем, как добрые христиане». А я над ней посмеивался: «Как же покаешься ты в церкви? Исповедуешься ли, со сколькими мужчинами блудодействовала, какой ворожбой занималась и откуда взялись у тебя деньги на покупку дома?» «К любым карам готова, — говорит — только бы ребеночка своего спасти. Ради него уступи, не мил он тебе разве? Измучилась я, Эню, господин мой, от жизни в грехе! Сжалься надо мной и самого себя пожалей. Отвернемся от дьявола, будем жить одни, совьем своё гнездо». На коленях меня молила, о плоде, что в утробе её, пеклась, чтобы был он лучше нас, окаянных. Вот это и свято в женщине — надежда родить человека нового и чистого. Каждой хочется стать Богородицей, царицей небесною! И тайна великая — стремление сие, доказывающее божественное в человеке. Но в ту пору не знал я того и не желал знать. «Какой младенец родится от блудницы и Искариота?» — хмуро спрашивал я её.
За осень и зиму добыл я охотой немало звериных шкур — лисьих, волчьих, а также ласочьих и куньих, ценившихся особенно дорого. Хотел я продать их в Тырновграде и ждал подходящего случая отправиться туда. От одного субботника, пришедшего в селение на исходе марта, узнал я о кончине царского богомаза Тодора Самохода. Умер он недавно, погребен во дворе одной из церквей. Не столько опечалила меня отцовская смерть, сколько разобрало любопытство взглянуть на отчий дом, поглядеть, где же некогда обитал пригожий отрок по имени Эню. Что-то неясное повлекло меня к прошлому, а отчего — я даже и не пытался понять. Взял у одного субботника рясу и камилавку, и вместе с отцом Лазаром отправился в путь. Отец Лазар взял с собой телохранителей, головорезов — не приведи господи, они остались в ущелье дожидаться его возвращения, а я распростился с ним в Асеновом городе, где на скорую руку сбыл принесенные меха. Денег я за них выручил немало, закрыл лицо покрывалом и вошел в Царев город вместе с монахами, что пришли сюда на богомолье. Точно во сне шагал я знакомыми улочками и думал: «Было время, человече, когда взял тебя страх, не антихрист ли ты, что явился уничтожить мир сей. Ты и стал антихристом, только не можешь уничтожить мир и не знаешь, как быть дальше с сидящим в тебе бесом. Коли подожжешь город и предашь смерти тысячу душ, тебя тоже предадут смерти, а мир останется таким же, каким был. Не лучше ль уничтожить себя самого, дабы отомстить Господу за то, что создал он тебя, либо дьяволу, если ты творение дьявольское? Пришел ты сюда, чтобы посмеяться над прежним Эню и над всем, что люди ещё почитают, из-за чего мучаются и на что уповают они».
День выдался погожий, солнце клонилось к закату, сверкал крест над патриаршей церковью, ото стен и башен веяло прохладой, а по улицам разносилось прежнее зловонье. Я встречал знакомых. Один подошел за благословением. Я благословил его, смеясь про себя под скрывавшим лицо покрывалом: «Благословенье от Искариота!» Так дошел я до нашего дома. Он стоял, прилепившись к дому золотых дел мастера по имени Койчо, притихший, печальный; вечерний ветер развевал траурную ленту на двери, из комнат ещё струился запах свечей, ладана и покойника. Из окошка выглянула моя сестричка. Смотрит на меня, я — на неё. Выросла, похожа на отца. Глаза большие, печальные, из низкого ворота платья выступает худенькая, нежная шейка. Любовь и жалость пронзили мне сердце, но не поддается оно, окаянное, тешится жестокостью своею… Арма была такой же, как ты, сестричка. Как мне любить тебя? Отпрянула моя Каля от окна, но вскоре вернулась вместе с матушкой. Указывает на меня пальчиком, говорит что-то. Окно скрипнуло, отворилось, и матушка говорит мне: «Если к нам пришел ты, отче, милости просим, заходи!» Голос дрожит, в глазах надежда светится, о сыне весточки ждет. Материнское око жадно вглядывается в меня, вот-вот узнает. Я стою истуканом, не смею рта раскрыть, боюсь быть узнанным, даже если заговорю чужим голосом. «В волка превратилась, матушка, заблудшая овца. Напрасно надеешься, что блудный сын переступит порог отчего дома! Тот, от кого зачала ты меня, тоже был волком, но с божьей помощью сумел превозмочь волка в себе. От него, матушка, волчье во мне, потому-то и не любили мы с ним друг друга. Что знаешь ты об этих тайнах?» — и повернулся спиной, заметив и запомнив, как гаснул на стене над окном солнечный луч. Прошел мимо патриаршей церкви, потом вдоль крепостной стены. Торопился, чтобы матушка не догнала меня и чтобы не успели запереть ворота под Балдуиновой башней. А когда поравнялся с ней, в ворота въезжал всадник, весь в пыли, в сопровождении других всадников, и у каждого развевался на копье царский стяг. Стража обступила их, и я услыхал, как гонец объявил: «Сулейман осадив Царьград. Загорье обращено в пепел. Мы едем из Боруя, дайте дорогу!..» Лошадиные копыта зацокали по дороге ко дворцу, воины стали креститься, и один из них сказал мне: «Не знаю, кто ты, отче, не еретик ли из тех, что гневят Господа, но из-за ваших грехов всего больше и происходит зла. Два дня гаснет елей в лампаде святого Георгия, не принимает его святой…»