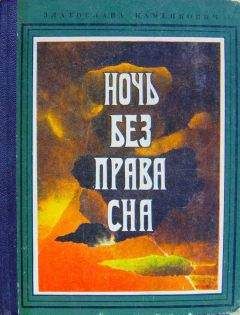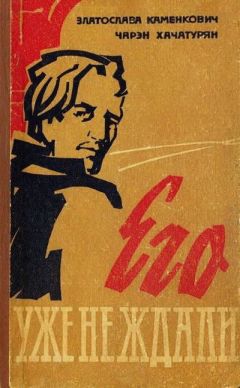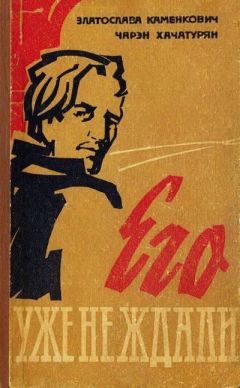Кто тут? Не Стахур ли?
— Он, — отозвался Богдан, который тянул Стахура за руку к окну.
Теперь они сидели возле нар под оконцем, сквозь которое в душную камеру проникал свежий воздух. К ним подсел и Любомир — молодой рипнык с промысла.
— Где Андрей Большак? У вас?
— Был тут, а с вечера его и Мариана Лучевского перевели.
— И Лучевский с вами?
— Да, все время в этой камере.
— А как Большак? Не проговорился?
— Признался, дурья башка! — с досадой махнул рукой Богдан. — Говорит: «Не мог я больше. Не хочу я, чтобы из-за меня люди невинно страдали. Я поджег — меня и карайте. Я, говорит, так пану следователю и заявил. Отняли работу, заморили голодом семью, погубили жену с тремя деточками, вот я и отомстил, поквитался с хозяевами. Теперь делайте, что хотите!» Пан инспектор как заорет: «Дурень ты! С твоим умом — поджечь промысел? Ты лучше признайся, кто тебя научил». Тогда Большак ему в ответ: «Поджечь дело немудреное, зачем меня учить? Сам я, сам!» А тот свое: «Поджег не ты, подожгло твоими руками тайное общество социалистов. Ты лишь игрушка в их руках. Тебя научил член тайного общества Степан Стахур. Признайся, дурень, облегчишь свою вину». Большак стоит на своем: «Чего вы зря возводите напраслину на невинных людей? Я поджег, я и в ответе. А то смотрите, как бы вам за ваше усердие голову не оторвали те, которых вы хотите зря погубить!»
— Молодец Большак! — восхищенно прошептал Стахур. — Я не ошибался, что он не продаст.
— Молодец-то он молодец, — сочувственно сказал Любомир, — да пан инспектор не унимается. Замучил бедного Большака. Утром и вечером допросы, а он твердит одно: «Я поджег, никакого тайного общества не знаю, никто меня не учил».
— Ты расскажи, Любомир, как его пан инспектор вывел из терпения, — усмехнулся Богдан.
— Так это же умора! — Любомир даже не заметил, как начал говорить в полный голос, и рассказал историю, известную всем в камере: — Начал пан инспектор сулить золотые горы Большаку, только бы тот подтвердил, что это студенты-социалисты с твоей, Степан, помощью научили его, как поджечь промысел. Большак сразу и спрашивает: «Скажите, прошу папа, у вас братья есть?» А тот ему: «Тебе зачем?» Большак говорит: «Я, прошу пана, пятнадцать дней на ваши вопросы отвечал, а вы на один мой вопрос не хотите ответить!» Тогда пан инспектор и говорит ему: «Ну, нас три брата. Дальше что?» Большак свое: «А сестра есть?» Интересно стало пану инспектору, к чему это Большак клонит. «Да, есть и сестра», — отвечает. — «Ну вот, а если бы к примеру, — говорит Большак, — над вашей сестрой какой-нибудь панычик поглумился?» При этих словах пан инспектор покраснел, как перец осенью, но слушает, не перебивает. «И вот, — ведет дальше Большак, — меньшой ваш брат, самый горячий, возьми да и убей обидчика. Полиция схватила вас всех трех. Наседают на вас, прошу пана, потому, что вы самый старший. Издеваются, пытают, дознаться хотят, кто убил. Говорят вам: если не скажете — ваша вина! Так вы, прошу папа, указали бы на брата?» — «А как же, сказал бы правду, как перед богом», — отвечает инспектор. «Я так и знал! — Большак ему. — Чтобы спасти свою шкуру, вы бы и других братьев разом продали, не то что одного…» Пан инспектор и слова ему больше вымолвить не дал, взорвался: «Ах ты, быдло! Да как ты смеешь? Пся крев! Да я тебя, дурня, в тюрьме сгною!» Наш Большак как ни в чем не бывало повернулся к нему спиной и так спокойно говорит: «Поцелуй меня в задок, прошу пана».
На нарах под окном кто-то засмеялся.
— Ну и чем все это кончилось? Пан инспектор поцеловал? — наивно спросил голос с другого конца камеры.
Теперь рассмеялись все, кто не спал.
— Нынче, как привели меня с допроса, Большака и Мариана Лучевского уже не было, — заговорил Богдан. — Пока что неизвестно, к какой камере они сидят. Утром узнаем. Вот так, брат. — В голосе Богдана слышалась тревога. — Следствие пытается доказать, будто пожар организовали социалисты, какое-то тайное общество революционеров. На нарах под окном лежит академик Иван Франко, сын кузнеца из нашего села. Он в этом… универку[8] учился. Его арестовали за то, что будто он и его товарищи призывали народ браться за сокиры, против цесаря, графов и баронов на бунт поднимали. Ищут доказательств. Сегодня привели меня на допрос, а инспектор такой добрый ко мне: и «сигаретку, будь ласка», и «ближе к столу, прошу пана». Будто позабыл, что вчера быдлом величал, грозился в яме сгноить. Ну, думаю, посмотрим, какой новый капкан готовишь. А он: «Знаете, пан Ясень, у меня есть для вас хорошая новость. Следствию известно, кто поджег нефтяной промысел. Злоумышленник сам сознался, поэтому и решено всех вас освободить… При условии: если вы без утайки ответите на один незначительный вопрос. Незначительный потому, что люди, о которых пойдет разговор, давно арестованы и осуждены. Так что ничего нового вы не прибавите, зато лишний раз подтвердите показания вашего товарища Андрея Большака, поможете ему. Пан Большак признался, что у него и в мыслях не было совершать преступление, что его опутали академики из Львова, которые часто приезжали в Борислав. Он называл какого-то Ивана Франко. Скажите, пан Ясень, вы знаете Ивана Франко?» Понял я, куда он клонит: мол, это сделал Большак, которого научило тайное общество социалистов. Тут меня взяла охота немного потешиться над хитрым паночком. Я и говорю: «Так, Ивана Франко я хорошо знаю. Не раз разговаривал с ним». «О чем он с вами говорил?» — насторожился паи инспектор. Я и отвечаю ему: «Франко говорил, что нет на всей земле справедливости, а у нас, в Галиции, тем более. Вот засудили его за то, что правду людям говорил, и невиновного до криминалу [9] кинули. Хоть срок давно кончился и пора Франку на воле быть, а власти держат его здесь». Чтобы пригнуть пана инспектора, добавляю: «Иван Франко жалобу написал в Вену, самому цесарю Францу-Иосифу». Гляжу, морда папа инспектора как-то вытянулась, подозрительно смотрит он на меня и спрашивает: «Погодите, погодите, пан Ясень, где же вы виделись с Иваном Франко?» — «Да где же? — отвечаю. — Слава богу, мы с ним пятнадцать дней в одной камере томимся». Люди, глянули б вы на него в эту минуту! Настоящий пес охотничий, увидевший, что перед ним не дичь, а чучело.
— Разве он не знал, что вы в одной камере сидите? — пожал плечами Стахур.
— Позже мне Иван растолковал: мы должны были сидеть в разных камерах, но надзиратель спьяна втолкнул нас в одну. А может быть, пан инспектор с перепою позабыл, где сидит Франко?
— Разве он не знал, что вы с Франко из одного села?
— Знал, сучий сын, как не знать. Хитрый, шельма! Крутился, вертелся, мол, неужели я раньше, до тюрьмы, не видел и не знал Ивана Франко? А я говорю: «Где мне ученых людей, разных там академиков знать? Я человек рабочий». Снял он с носа пенсне, прищурился и цедит сквозь зубы: «А не припоминаешь ли ты, быдло, что ваши хаты в двух шагах друг от друга? Не помнишь ли, что Франко был лучшим твоим другом, что с ним вместе на рыбу ходили, книги запрещенные читали? Ну, что ты теперь скажешь, пся крев? Не прикидывайся дураком! Расскажи, зачем приезжал Иван Франко в Борислав. Ведь ночевал у тебя! О чем вы с ним говорили? Кто был с вами?» Я обомлел. Молчу. А он опять ко мне, но уже медовым голосом: «Так вот, пан Ясень, ступайте назад в камеру и хорошенько подумайте. Завтра я вас вызову. И не воображайте, прошу пана, что перед вами дурак, потому что сами в дураках окажетесь. Я к вам, кажется, хорошо отношусь, и вы должны мне чистосердечно рассказать все, как это сделал Андрей Большак. Я же помогу вам выпутаться из беды».
— Брешет, пёс! Большак только себя погубил! — перебил Богдана Любомир.
— Конечно. Большак ничего не знает, выдавать ему нечего. Засыпает нас другой, — предположил Стахур.
— Да, да, кто-то другой, — совсем понизив голос, прошептал Богдан. — Но бес его знает, что мне завтра плести на допросе.
— Погоди, Богдан, дай подумать, — сказал Стахур, скрестив на груди руки.
Храпели и стонали сонные арестанты, скорчившись на двухэтажных нарах, на холодном цементном полу.
Вдруг раздался жалобный крик и рыдания:
— Зофья! Зофья!
— Снова Ковский… Несчастный… — в голосе Любомира прозвучало страдание.
— Что за человек? — полюбопытствовал Стахур.
— Крестьянин. Графский эконом надругался над его женой, а этот дурень, нет чтоб того негодяя зарубить, взял да жинку топором… Сын остался сироткой. Очень, видно, любил жинку. Только и бредит: «Зофья! Зофья!» Хотел руки на себя наложить, да мы не дали. Утром посмотришь на него, человек от горя совсем обезумел.
— А скажи, Богдан, кто знал или видел, что Иван Франко ночевал у тебя? — неожиданно спросил Стахур.
— Сейчас трудно сказать, целый год прошел, — попробовал вспомнить Богдан. — Кажется, никто не знал, кроме товарищей из нашего рабочего кружка.