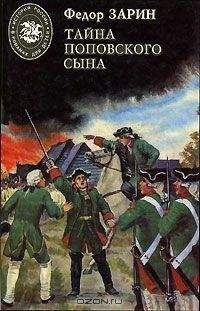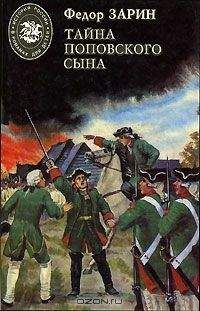— Так и надо! — вдруг воскликнула императрица, сверкая глазами…
— Но это бунт, ваше величество! — возвысил голос Бирон. — Я имею донесение от Бранта, он честный солдат, там бунтуют крестьяне, вот боярин, что сам сознался, да еще Кочкарев, коего я уже препроводил в Тайную канцелярию.
— Не верь, матушка, не верь, ласковая, — не обращая внимания на бешенство герцога, говорил Кузовин, — и Кочкарев не бунтовал, лжет этот Брант.
— Я не трогаю дело Кочкарева, — произнесла императрица, — вы сами рассмотрите его. Но взгляните же, герцог, на старого боярина — и это бунтовщик? Смеху, право, достойно! Да из вашего Бранта преизрядный шут вышел бы. Вы бы послали ему, герцог, орден святого Бенедикта, коим мы жалуем наших особо отличных шутов.
Бирон слушал, закусив губы.
Действительно, и ему было немного неловко.
По рапорту Бранта он ожидал увидеть крепкого, сильного человека, с лицом разбойника, а увидел перед собою восьмидесятилетнего старика.
— Воля вашего величества, — ответил он, — но майор Брант честный воин…
— Это майор-то Брант честный воин, ваша светлость? — вдруг неожиданно раздался рядом с герцогом чей-то властный и насмешливый голос.
Бирон повернул голову. Этот вопрос произнес человек, скромно одетый в темно-коричневый камзол со звездой на груди, высокий и стройный, в напудренном парике.
Трудно было определить его возраст. На его овальном сухом лице с орлиным носом не было ни одной морщины, только на лбу легла поперечная складка. Огромные черные глаза горели совсем молодым огнем. Красивые губы насмешливо улыбались, обнаруживая белые зубы.
Во всяком случае, этому человеку можно было бы дать на вид лет сорок-сорок пять. На самом же деле ему было значительно больше, возраст его приближался к шестидесяти годам.
Этот человек уже несколько минут как, никем не замеченный, вошел из боковых дверей.
Императрица обернулась на звук его голоса.
— А, Артемий Петрович, — произнесла она. — Что это вы там про Бранта говорите? Мне любопытно послушать.
Артемий Петрович Волынский, генерал-аншеф, обер-егермейстер и кабинет-министр, быстро приблизился к императрице и, склонясь на одно колено, благоговейно поцеловал милостиво протянутую ему руку.
— Я, ваше величество, — начал он, — хотел лишь сказать, что его светлость, сиятельнейший герцог, введен в заблуждение. Этот майор Брант был в походе тридцать четвертого года и, яко вор и грабитель, едва не был повешен мною, и был он не воином, а служил у гоф-интенданта. А потом перешел к фельдмаршалу Миниху, каковой, пожелав от него отделаться, удалил от армии, препоручив его благоутробию его светлости.
С каким бы удовольствием увидел Бирон на плахе эту красивую голову.
— Вот видишь, герцог, — тоном ласкового упрека произнесла императрица, — это твоя ошибка.
Волынский торжествующе улыбнулся, а императрица продолжала:
— Нашим самодержавным еловом приказываем выдать боярину Кузовину тыщу рублей серебром, сложить с него все недоимки и впредь до самой смерти не взимать подушных. Ваша светлость, — обратилась она к Бирону, — не оставите сделать посему нужные указы.
Кузовин со слезами вновь упал к ногам императрицы.
Волынский был смел и самонадеян, он затеял опасную игру, но тяжелое чувство невольно сжало его сердце, когда он встретился глазами с Бироном.
На каменном лице ярко горели большие глаза с маленькими зрачками, и столько ненависти, холодной, терпеливой ненависти было в них, что Волынский отвернулся.
«Он умеет ждать», — мелькнуло в его голове.
Волынский не раз проклинал свою горячность; если бы он имел выдержку Бирона и его умение выжидать момент, история России была бы иная.
«Близится, близится час последней борьбы», — подумал он.
Под влиянием сознания совершенного великодушного поступка, на самом деле несколько растроганная, императрица была очень милостива к окружающим.
Она развеселилась.
Громко смеялась шуткам своих шутов.
Горбатая калмычка, вступившаяся за князя Голицына, с жалобным воем подползла к ее ногам.
— А, Буженинова, — со смехом произнесла государыня, — чего воешь?
— Князюшку забижают, — плаксивым голосом заговорила дура. — Дай ему орден! Дай ему орден! — твердила она, целуя подол платья императрицы.
— Ах ты, девка, девка, — ответила Анна, — что, чай, влюбилась в его сиятельство?
Окружающие громко захохотали.
Князь Голицын, поняв, что речь идет о нем, высоко взмахнул своими широкими рукавами и пронзительно закричал:
— Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!..
— Видишь, — продолжала Анна, — уж он в нетерпении. Чем не жених тебе? Не стар, красив, роду древнего. А орден — непременно… Герцог, — обратилась она к Бирону, — жалую шута нашего князя Голицына кавалером ордена святого Бенедикта.
Герцог наклонил голову.
Кузовин не верил своим ушам.
Шутит, что ли, государыня?
Да, конечно, шутит!
Не безродной калмычке, дуре, быть женой князя, чей род немало услуг оказал своей родине.
Но, взглянув на лицо Голицына, Кузовин понял, что эта шутка очень похожа на правду.
Лицо Голицына при словах императрицы болезненно исказилось и побледнело. Глаза расширились с выражением ужаса, на губах застыл шутовской возглас, еще мгновение, и по лицу забегали частые судороги, как у человека, всеми силами старающегося удержаться от слез.
Илья Петрович заметил, что лицо графа Апраксина приняло выражение злорадного удовольствия.
Это был злой шут.
— Радуйся, тестюшка! — крикнул он громко на весь зал. — Кланяйся и благодари. Пожалован орденом и невестой. Вот так невеста! Ты счастливее меня! — нагло закончил он.
Трудно было понять тон его слов.
Издевался ли он над своим тестем или хотел подчеркнуть то унижение, в котором они находились оба.
Из угла залы на них глядели потухшие глаза третьего шута, князя Волконского, и в них можно было бы прочесть: «Не все ли мне равно? Любимая жена моя в монастыре, по повелению всемилостивейшей государыни, я в шутах… Я никогда больше не увижу ее. Никогда! Никогда! Что мне до вас? Страдайте. Больше меня вы не будете страдать…»
Он опустил глаза и бережно поддерживал на руках заснувшую левретку.
Но всем было весело.
Императрица вскоре поднялась с места и отправилась во внутренние покои, милостиво кивнув головой всем собравшимся и еще раз дав поцеловать свою руку боярину Кузовину. При этом государыня сказала, что ему открыт в любое время вход во дворец.
Императрица прошла во внутренние покои, чтобы переодеться к столу. Наступал час ее обеда.
Лица, приглашенные к высочайшему столу, а также те, кто по своей должности обязан был присутствовать при обеде, поспешили покинуть залу.
К числу этих лиц принадлежали Буженинова и князь-курица, на обязанности которого лежало подавать государыне за обедом квас, за что он и был прозван «квасником».
Голицын соскочил со своего лукошка, и в это время к нему подошел Кузовин.
При виде его краска залила бледное лицо Голицына, и он отвернулся.
Кузовин тихо взял его за руку.
— Князь, — дрогнувшим голосом обратился к нему Кузовин, — ужели так будет? Ты ли это? Внук боярина Василия?
Они стояли в стороне от других. Часть гостей разошлась, часть еще перекидывалась прощальными словами. На Кузовина и шута никто не обращал внимания.
— Уйди, оставь меня, — глухим шепотом ответил князь, вырывая руку, — оставь меня! Чего тебе надо? Зачем ты пришел? Ты, должно, выходец с того света. Ты встал из могилы, где лежал с дедом моим. Прочь! Уйди прочь! Нет и не будет мне спасения. И да будут они прок…
Он не кончил.
Его голос захрипел. Он быстро отвернулся, весь съежился и как-то боком торопливо шмыгнул в дверь. Долго смотрел ему вслед старый боярин.
— Боярин, пора, — тихо проговорил около него чей-то голос. Он обернулся. Это был тот же молодой измайловец. — Никого уже нет, — продолжал он, улыбаясь.
Действительно, только у дверей стояли неподвижные, словно окаменевшие, напудренные лакеи.
— Да, да, — вздыхая, ответил боярин, — пора! Ах, да, — вдруг произнес он, всматриваясь в форму молодого офицера, — я знаю твой наряд, ты не Измайловского ли полка?
— Да, Измайловского, боярин, — ответил молодой офицер, — поручик Куманин.
— Так ты, значит, знаешь, батенька, сержанта Астафьева? — спросил старик.
При этом вопросе Куманин побледнел, испуганно схватил за руку Кузовина и прошептал:
— Молчи, разве это можно…
И он торопливо увлек его из комнаты мимо безмолвных лакеев.
Желая расспросить Куманина об Астафьеве, старик предложил ему поехать вместе к себе, причем обещал угостить молодого офицера таким медом, какого он еще в жизни не пивал.
Молодой человек без большого колебания согласился поехать в гости к боярину. Он был до утра дежурным. Теперь же совершенно освободился и был рад поговорить с этим странным стариком, обласканным самой императрицей, да притом еще за чашей крепкого старого меда.