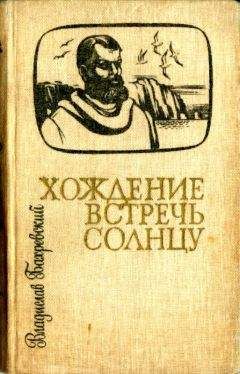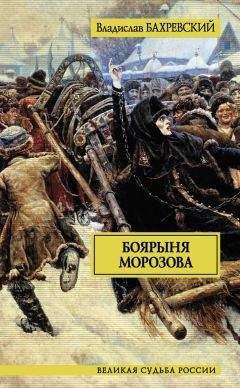Привели Ивана Ярыжкина. Он был в цветастом суконном кафтане, в желтых сапогах.
Помолились.
Верховный соколиный подьячий Василий Ботвиньев сказал речь:
— Великий Государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великая, Малая и Белая Руси Самодержец! Нововыборный твой, государь, сокольник Иван Гаврилов сын Ярыжкин тебе, Великий Государь, челом бьет.
Ярыжкин и двое рядовых старейших сокольников с ним покланялись.
— Поставить на поляново! — приказал царь.
Ярыжкин встал на сено. На него надели горностаевую шапку, четырехугольную сумку, на которой была вышита волшебная птица Гаюн, дали вощагу — палку с шариком, серебряный рог, полотенце и рукавицы.
— Время ли мере и чести и укреплению быть? — спросил Хомяков.
— Время.
— Начальные! Время мере и чести и удивлению быть.
Василий Ботвиньев взял из сумки Ярыжкина письмо: нововыборного пожаловали пятым начальным. В конце письма стояла приписка: «За непослушание — на Лену».
Когда церемония подходила к концу, Алексей Михайлович вдруг вспомнил одну мысль, которая вот уже недели две не давала ему покоя. Но опять отвлекли.
Окольничий Родион Матвеевич Стрешнев ударил челом, просил принять служилых людей. Царь вышел к ним. Служилые стали на колени, поклонились.
— Поднимайтесь, — попросил царь.
Дежнев глядел на этого толстого и румяного человека и ждал его слова. Ведь слово это не могло быть простым. От него зависели судьбы людей во всех далеких и близких концах страны.
Стрешнев представил царю служилых.
— Это Дежнев Семен Иванов, — говорил он, — ленский казак. На Колыме служил, ходил на реку Анадырь.
— Далеко! — сказал царь. — Холодная страна.
«Оценил! — сердце у Дежнева забилось. — Оценил! Понял! Далеко. Еще как далеко, еще как холодно! Да ведь и голодно».
Царь смотрел на служилых, они на него.
— Так наградить всех надо! — вдруг придумал Алексей Михайлович. — Всем по полтине. Или уж по рублю. По рублю!
Царь удалился. Оставшись один, он сел писать заведующему Аптекарским двором: «Приказать Зоту Полозову, чтоб он учинил опыт: велел иссушить рыбы — белуг и осетров и мелкой какой-нибудь порознь, сколько доведется, с костьми, также и без костей, и иссуша ту рыбу, истолчи, и истолча, просеять редким ситом или решетом и ту муку смешать всякую порознь с оржаною, ситною и решетною мукою, а положить рыбной муки в оржаную — в полы, в треть, в четверть, а замеся испечь и искрошить в сухари, а те сухари в каше, в варенье каковы будут?» И подумав, дописал: «А то учинить тайно, а не явно».
Ведь не дай бог, дурное получится!
Тем временем Семен Дежнев сидел в захудалом кабаке и не пил даже. Скучно было, горько. Вспоминал погибших в походах друзей и толстого царя.
Хотелось бежать из Москвы.
Целый месяц ходил Семен вокруг дома вдовы боярина Василия Марии Романовны: сладко ли нести недобрые вести?
Решился все-таки. Постучал в ворота.
Дворня, подозревая в нем недоброе, долго пытала, зачем ему боярыня, наконец, не добившись толка, впустила в дом, и он ждал в пустой душной комнате, когда позовут пред очи. Позвали не быстро.
Провели темными коридорчиками к высоким резным дверям.
Двери бесшумно распахнулись, и Семен зажмурился — так много было света в огромной диковинной комнате. Он первый раз в жизни увидел настоящее зеркало, да не одно, а сразу три. Семен стоял в этих трех зеркалах, широкий от шубы, тяжелый, черный, страшный почти. Был он чужой для этой комнаты, где сияли зеркала и тикали со стен, будто по ним скатывались капли воды, многие часы: германские, которые показывали время с полудня, от заката — по счету богемскому, от восхода — по-вавилонскому, с полуночи, как в латинской церкви. Посреди комнаты на легких витиеватых подставках стояли медные чаши, и в этих чашах курились благовония.
У Семена закружилась голова. Он таращил глаза, но не видел хозяйку.
— Здравствуй, казак, — сказали откуда-то сбоку.
Косясь на зеркала, Семен развернулся, сначала телом, потом неловко, чтоб не приметили, ногами.
В кресле у стола (а над столом поднимались шкафы, наполненные книгами) сидела женщина.
В смятении своем Семен не разглядел и не запомнил ее лица, а может быть, он его и не видел. Он поклонился, торопливо достал из-за пазухи кожаный мешочек, шагнул к столу и положил его возле белых, тонких, без единого перстня рук.
Семен не видел-таки лица боярыни. Не видел, как схватилась за сердце, как жадно побежала глазами по латинским словам.
— Ты знал его, казак?
— Знал.
— Ты его давно видел?
— Давно.
— Что он?
— В бою сгибнул.
— Когда же?
— Лет уж как тридцать пять.
Боярыня вскрикнула. Долго молчали. Семен смотрел под ноги, на узорчатый пол.
— И ты все время хранил это письмо?
— Сохранял.
— Спасибо тебе, казак. Возьми это.
В широкую казачью лапу, на которой один палец отмерз, другой медведь отломил, опустился тонкий золотой ободок с белоогненной каплей.
Семен попятился к двери.
— Береги, как память о нем, как берег письмо. Это очень дорогой камень.
— Ах, да! — высоко взметнулся голос боярыни. — Вот тебе на вино.
Рядом с чудо-перстнем лег разрубленный надвое рейхсталер, ефимком названный в России.
Двери закрывались уже, когда Семен поднял голову и спросил в отчаянии от совершившейся нелепости и несправедливости.
— Что же было в письме?
— Латинские стихи!
Он медленно шел по скрипучему весеннему снегу. Над Москвой, над куполами церквей чуть плыла светлая голубая ночь. Ласкались звезды. Деревья взлетали над темной громадой домов и земли тонкими точеными веточками.
— Эй! — крикнули Семену.
Оглянулся. Перед ним стоял подьячий Сибирского приказа.
— Грамота на тебя пришла. Гони выпивку! Ты теперь не простой казак — атаман.
Семен сунул руку под шубу и бросил подьячему серебряный ефимок. Подьячий в изумлении от щедрости сибиряка согнулся пополам, а когда разогнулся, Семен Дежнев маячил в конце улицы.
Остановился на миг, поднял глаза к небу. Кол-звезда подмигивала людям Московской земли, но никто не понимал здесь, о чем она подмигивает, а Дежнев понимал.
…Никогда не знали русские люди, что сделали для мира, никогда не просили честную расплату, предовольные даденым, упивались неверным словом хвалебным, иноземной лаской бесстыжей, а что внутри бережено было, то не под золотом, не под хитростью, не под каким чином, а выше всего, — никогда не высказано, но любому да самому разнесчастному и последнему русскому известно.
Челобитная Семена Дежнева, 1665 год.
Коч — парусное судно.
Плавание по северным морям в XVII веке.
Народности русского Севера.
Коряк в простом наряде.
Чукотский охотник.
Тунгусский воин.
Тунгусский шаман.
Якут в охотничьем платье.
Якутская женщина.
Ненецкая женщина в летней одежде.
Остяк на ловле горностаев.
Охота на белых медведей.
Охота на морского зверя.
Туземские каноэ на Аляске.
Сани и лыжи у камчадалов.
Летняя яранга чукчей из оленьих шкур, натянутых на деревянные стойки. Рис. худ. Луки Воронина.
Одна из башен бывшего Якутского острога, построенного в конце XVII века.
Речка Никул — место, где в 1648–1649 годах находилось зимовье казаков Федота Попова, спутника Дежнева.
Памятник-маяк казаку-землепроходцу Семену Дежневу.
Камень лал — рубин.
Ферязь — легкая комнатная одежда.
Братина — сосуд для вина в виде ковша.
Вор — на Руси называли так и политических преступников.
Пернач — холодное оружие в виде булавы с зубцами, у шестопера таких граней было шесть. Рукоятка деревянная, короткая, с ремешком на руку.
Ям — в России место, где жили ямщики и содержались лошади для ямской гоньбы. Обычно это две-три избы, большие конюшни, сарай для сена.
Затинные пищали — орудия, которые ставились на стенах крепостей для обороны.