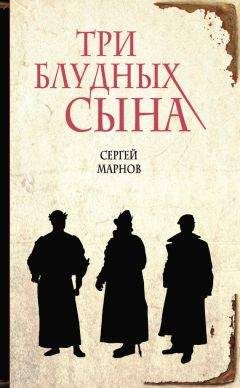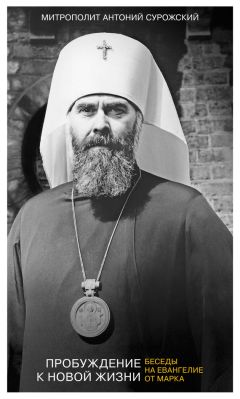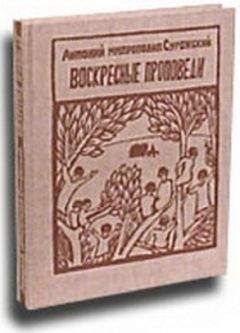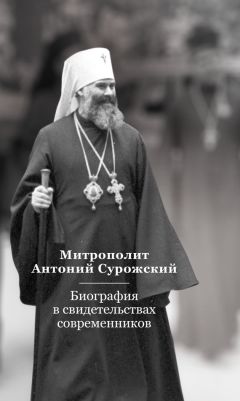– Только бы не Клим, только бы не Клим…
Заклинания не помогали: Клим его как сердцем чувствовал и тишину грозного учреждения в клочья рвал восторженный рев:
– Ты где пропадал, скотина?! (По плечу – хлоп!) Чтоб ты сдох, свинья! (По другому – хрясь!) Сдавай скорее свои бумажки, и – ко мне! (Кулаком – в пузо!)
И пусть генеральский чин позволял Собакину заменить самогон дорогим коньяком, объем «стаканищ» по-прежнему был убийственным…
…Из облака пыли проявился Клим, но в каком виде! Голый по пояс, жирное брюхо переваливается через резинку грязных сатиновых шаровар, лысину прикрывает расшитая узбекская тюбетейка.
– Гадыч, скотина, чтоб ты сдох! – Клим сгреб его в потные объятья и принялся тискать, время от времени бросая реплики угрюмым зрителям, стоявшим около своих домов: – Это же Гадыч, дружок мой закадычный! Мы с ним еще в Гражданскую попов душили!
– Что с тобой, Клим? – осторожно спросил Маузер, потихоньку высвобождаясь из объятий. – Почему в таком виде?
Безумная надежда, что «старого друга», наконец, выгнали из органов за пьянство, наполняла душу тайным ликованием.
– А! В отпуске я, у тетки гощу. Надоели эти курорты: режим, кислятина вместо вина – тьфу! Самогон здесь – не поверишь, как в молодости! Заканчивай скорее дела и гульнем, вспомним Гражданскую!
У Маузера подкосились ноги, печень заныла тоскливо.
– Не могу, прости, никак не могу: должен сопровождать арестованную…
– Блаженную? Брось, без тебя сопроводят. Парализованная слепая старушка метр ростом – куда она денется? Вот, председатель и сопроводит… правда, Петька?
– Эта… бумагу пусть. Приказ.
– Напишет тебе Гадыч бумагу, не волнуйся. Что-то все пугливые стали, с Блаженной этой… Честно говоря, и я не в своей тарелке. Если бы не самогон…
Домик, где уже несколько десятилетий лежала Блаженная, расположился в кругу вековых дубов и старых, но еще плодовитых яблонь. Плотная толпа людей окружила полуторку и охранников, но никаких внешних признаков агрессии не выказывала. Напряженное молчание сковало и местных, и приезжих. Надвигалось не просто событие – близилось Свершение, один из тех редких моментов бытия, когда временное соприкасается с Вечным. Тоскливо стало старшему лейтенанту Маузеру, так тоскливо, что почему-то захотелось завыть по-собачьи.
– Мистика, – досадливо бормотал чекист. – Если даже я это чувствую, то каково темным массам?
– А ты им речугу толкни, Гадыч, – почему-то шепотом сказал Клим. – Раньше у тебя это здорово получалось…
– Может, лучше ты?
– Ага! – хохотнул Клим. – С голым пузом и в тюбетейке!
Делать нечего. Изя прокашлялся, зачем-то снял фуражку и крикнул:
– Товарищи! Сегодня мы делаем еще один шаг на пути к светлому социалистическому будущему, избавляясь от груза проклятого, рабского прошлого! Мы изымаем так называемую Блаженную, которая годами морочила вам головы сказками о так называемом Боге! Она…
Слова застряли в горле чекиста, будто кто-то заткнул ему рот. Факты из «дела» Блаженной вереницей потянулись в сознании: исцеления, исцеления, исцеления… Возмутительное, противоестественное бескорыстие и терпение, сверхчеловеческое терпение, какого и быть-то на свете не может! Что сказать, что?!
– Она своей святостью задерживает ход коллективизации! – сказал Маузер и сам ужаснулся сказанному. И как его угораздило?! Хуже всего то, что Клим раздвинул похабной улыбкой свою пропитую рожу и показывает большой палец, сволочь. Изя сделал вид, что закашлялся и сурово приказал командиру конвоя:
– Приступайте к изъятию, товарищ старшина.
Никто не двинулся с места, лишь командир конвоя улыбался смущенно. Неповиновение, невыполнение приказа! Ярость охватила чекиста, пальцы сами потянулись к деревянной кобуре с наградным маузером – единственной неуставной вещью, которую он себе позволял и называл ласково «братишка».
– Погоди, Гадыч, не горячись, – прошептал на ухо Клим, удерживая его руку на полпути к оружию. – Попробуй сам подойти к дому поближе, поймешь, в чем дело.
Изя решительно пошел к избе, но больше трех шагов сделать не смог: лютый, безнадежный страх скрутил его, полностью парализовав волю. Старший лейтенант осторожно перевел дух и отступил назад. Страх отпустил, осталось лишь ощущение мертвящей тоски.
– Что за чертовщина?!
– Нет, Гадыч, там – по другому ведомству, – Клим горько усмехнулся. – А чертовщина – это мы с тобой. Я несколько раз пытался к ней подойти, охота поглядеть было – не смог. Ни пьяный, ни трезвый. Видно, у нас слишком много за спиной такого… ну, ты помнишь, какого. Всякого.
– И ты во все это веришь?
– А ты – нет? Против чего же мы боролись, против пустоты?
– Ну… суеверия, поповские сказки, – жалобно проблеял Маузер.
– Узко мыслишь, поэтому генерал я, а не ты. Ладно, Гадыч, не боись, прорвемся. Петька, сходи, возьми Блаженную! Видишь, кроме тебя некому.
– Эта… не пойду.
– Как это не пойдете?! – вскинулся Маузер. – Я вам приказываю, товарищ председатель сельсовета!
– А я в органах не служу, – огрызнулся Троицкий.
– Петька, – ласково проговорил Клим, – с огнем играешь. Вот арестует тебя Гадыч за саботаж важного политического мероприятия, скоро ли домой вернешься? Дети без папки вырастут! А про деревню вашу новую разнарядку напишут – на раскулачивание. Сочувствующих там, подкулачников всяких…[149] Три-четыре семьи наскребем, да за Урал вывезем. Хорошо будет? Иди, вытаскивай Блаженную, не артачься.
Петр Аркадьевич обвел глазами угрюмую толпу, пытаясь найти сочувствие в лицах односельчан. Куда там! Отвращение, ненависть, страх – только не жалость. Слезы потекли по лицу председателя, он наклонил голову и пошел к дому.
В темной каморке стояла маленькая кроватка, которую можно было бы назвать детской, если бы не крошечная слепая старушка, которая в ней лежала. Старушка непрерывно перебирала недоразвитыми ручками предметы, лежавшие у нее на груди, при этом тихонько напевала что-то церковное, давно забытое Петром Аркадьевичем. Голос Блаженной был удивительно чистым, и пела она красиво, правильно, будто училась этому всю жизнь. Рядом с кроваткой, на низкой скамейке, две женщины в черном окаменели от горя.
– Петя? – спросила вдруг Блаженная, прервав пение. – Что не шел так долго? Помог тебе мой камушек?
Петр Аркадьевич попытался ответить, но лишь слабый хрип вырвался из перехваченного спазмом горла.
– Ты не отвечай, Петя, если не можешь, – вздохнула Блаженная. – Жалко мне тебя, жалко. Глупый ты, заблудился совсем, упал, в грязи валяешься, а встать не хочешь… и соловушку уже не слышишь, бедный.
– Да как встать-то?
– Трудно, трудно, а ты потрудись, потрудись… Как совсем тяжело станет, благодари скорей Господа, это Его подарок; и проси помощи у Пресвятой Богородицы. Трудна жизнь, трудна; помоги, Господи, крест понести… А если невмоготу терпеть станет, меня вспомни да позови – услышу, помолюсь.
– Ты добрая. А я пришел, чтобы…
– Знаю. Как вытаскивать меня будешь, не дергай сильно, тихонько бери. Больно мне, Петя, очень больно, и Слава Богу! Только… могу не переневолиться, закричать: жар в голове, и слабость. Ну, что же ты? Бери скорей!
Петр Аркадьевич послушно шагнул вперед и наклонился над кроваткой.
– Брось, Гадыч! Отлично ты понимаешь, против Кого мы боремся! Это и здорово, аж дух захватывает! И пусть все наше только здесь и сейчас, зато все, что здесь и сейчас, – наше!
Маузеру стало не по себе. В звенящей тишине, сомкнувшейся вокруг домика Блаженной, пьяная богоборческая проповедь Клима звучала особенно жутко; но и не слушать его было невозможно.
Вдруг тихий, на высокой ноте звучащий крик послышался из дома, и как бритвой обрезал разглагольствования Собакина; все возможные слова, которые он мог нагромоздить, оказались жалкими, праздными и неуместными перед этим криком. Распахнулась дверь, и будто солнечным огнем резануло по глазам Клима и Маузера; они невольно попятились назад.
На пороге дома стоял Троицкий с небольшим черным свертком на руках. Председатель жалко улыбался и растерянно повторял:
– Какая легкая… легкая какая!
– И твои детки, Петя, такими легкими будут, – послышался мелодичный, почти детский голосок. – Им и тебе это не в наказание, а как памятка: помнить будете – спасетесь, Господь милостив!
Этот голос будто плеткой хлестнул Изю. Чекист распрямился и хорошо поставленным, «командирским» голосом отчеканил:
– Арестованную – в машину! В кузов!
Мгновенно откинули борт, положили деревянные сходни со ступенями-планками; председатель сельсовета Петр Аркадьевич Троицкий поднялся в кузов и сел на скамейку, стараясь поудобнее устроить Блаженную, которую так и не выпустил из рук. Конвой запрыгнул следом и в полной тишине стал устраиваться на скамейках – без привычной суеты, без мата и сальных шуток. Один боец сел рядом с председателем и робко попросил: