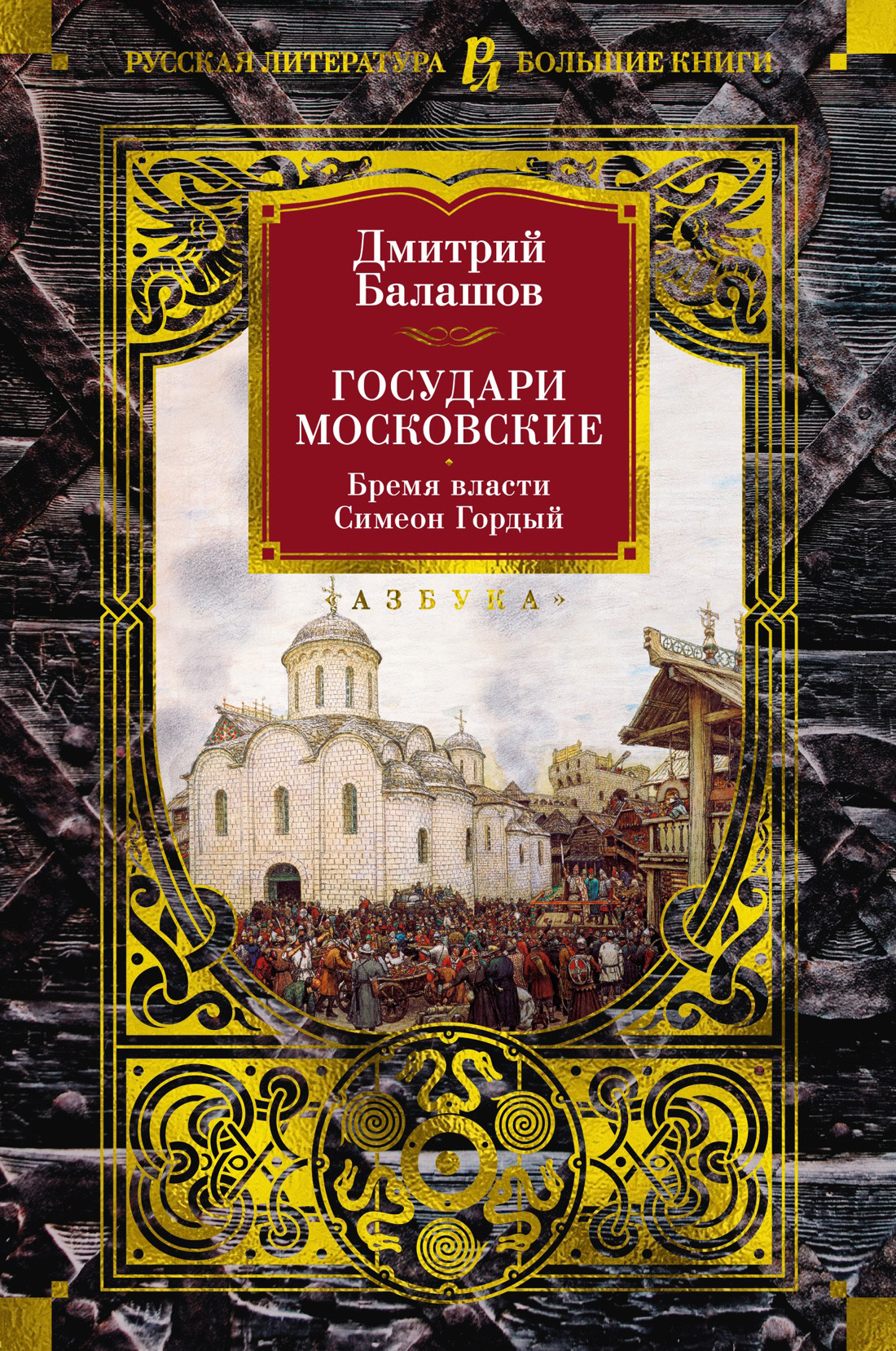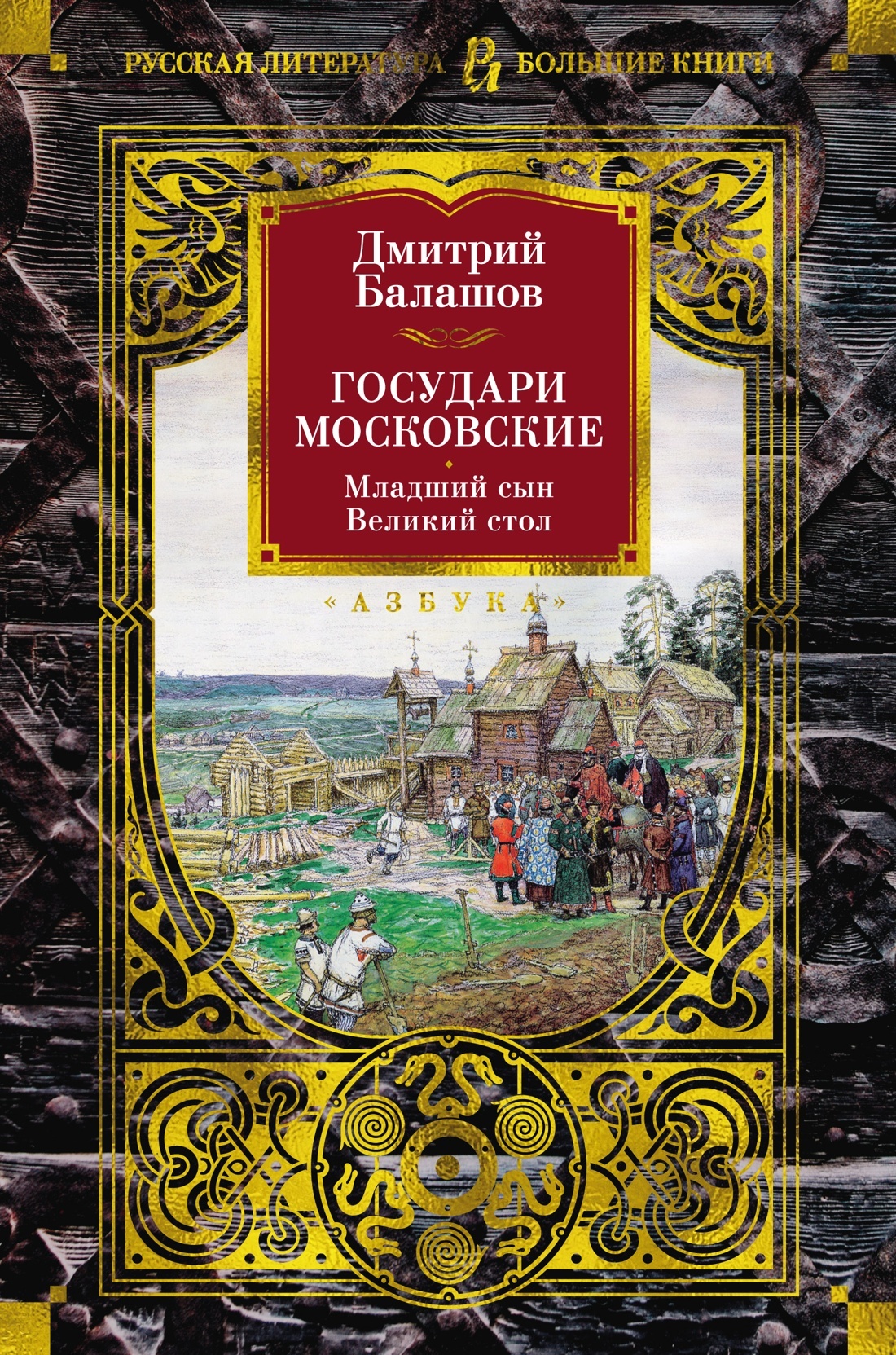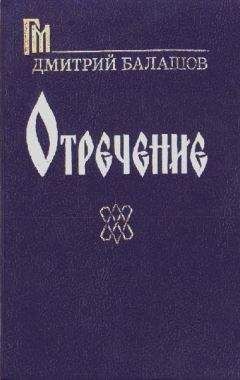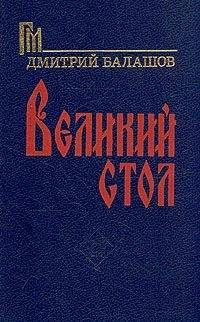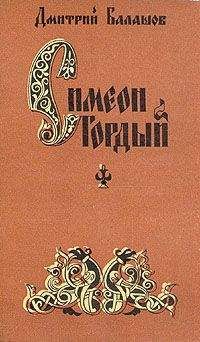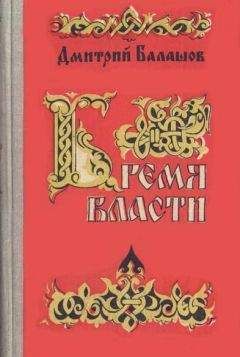престанет грешить она и к нему прибегла не ради спасения своего, а ради того, что он огнеглаз и красив и у нее во время службы в соборе, глядючи иа него, сладко замирает сердце. «Этого ты хотел?» – спрашивала душа Стефана с укором.
И приходил смерд, ремесленник, с руками, темными от железной пыли, строгий мастер, с прокаленным жаром горна лицом, приходил на мал час отдохнуть от трудов, глотнуть иного воздуха – воздуха веры и святости, не чающий сам света фаворского, но строго ждущий вкусить крох со стола горней трапезы. Дай их ему, крохи эти, овей, прикоснись! Из чаши причастной дай вкусить крови и тела агнца, а не вина и просфорного хлеба… Не можешь? Сам из мира сего? Из мира вещного, тварного, зримого и земного! И можешь дать лишь вино и хлеб, можешь дать обряд, но не таинство. А ему не хлеб нужен, на хлеб он заработает сам! Ему нужен луч света фаворского от глаз твоих и слово правды Христовой из уст. Можешь ты дать их ему, способен ли? И паки спрашивала душа: «Ты этого хотел, Стефан?»
Все чаще и чаще с глухим раскаяньем в сердце вспоминал Стефан брата, оставшегося в глухом лесу, к которому нынче, по слухам, начали собираться иноки, устрояя киновию…
В чем-то он изменил, в чем-то предал брата своего! И наместник Феогностов, всесильный Алексий, все реже и реже удостаивает его беседы своей. Не тех прилюдных бесед о божественном, а той прежней, с глазу на глаз, в келье, не для сторонних ушей, не для дела сугубого, а для сердечной услады и дружества творимой. «Так вверх ли, по лествице земного успеха и славы, или вниз, по лествице совершенствования духовного, грядешь ты, Стефан? – спрашивала душа. – И когда споткнулся ты, перепутав пути: не тогда ли, угодив князю своему, или еще ранее, не выдержавши лесной истомы? Или и еще ранее? Не там ли, в лесу, на поваленном дереве, завлек тебя в сети свои властитель тьмы? И не все ли, что окружает тебя однесь, обман и мара, блестки ложного пламени в непроглядной пляшущей тьме пустоты, вихрь уничтожения, многоразличные личины и хари, застившие единственный путь к горнему свету вечности, к свету Христа?»
Это приходило к нему все чаще и чаще, и он все не решался, но жаждал все более настойчиво душевно поговорить с Алексием. Но встречал строгие замкнутые глаза, видел печати усталости на заботном челе и не мог, не решался прибегнуть к разрешающей беседе.
Наконец случай представился. Алексий в один из своих частых, но кратких заездов в монастырь скользом завел речь об общежительном уставе, когда-то введенном Феодосием Печерским, а ныне повсеместно заброшенном, почему иноки и инокини жили нынче в киновиях, как в миру: каждый в своей келье, в меру достатка и данного вклада в монастырь. Держали слуг, дорогую утварь, свой стол, свои книги, свои, родовые, иконы, кресты, чаши… Ограбить иную келью было бы соблазнительнее для прохожего татя, чем терем боярский. Да, конечно! Переписывали книги на покое, вышивали пелены и церковные облачения. Все шло в монастырь, на общее дело, завещалось, оставалось после смерти вкладчика в ризнице монастырской – не закажешь, не отберешь! И все же соблазн был явный. Иные, бедные, трудились яко трудницы монастырские, от зари до зари: обстирывали, стряпали, кололи дрова, подметали и прибирали кельи, ходили за больными и немощными… И было от того в киновии яко в миру. Те же неодиначество, и спесь, и тайные зависти. Но содеять что-либо, изменить сложивший вековой распорядок было безмерно трудно.
Об этом, зайдя в келью, и толковал Алексий с игуменом Стефаном, не чая уже от этой беседы особого толку, когда Стефан, склонившийся к устью печи, дабы помешать огонь, вдруг, голосом глубоким и словно надтреснутым, изронил, не глядя на Алексия:
– Прости, владыко! Давно должен был я сказать тебе о брате моем! Быть может, он там, у себя, возможет…
Алексий весь напрягся, умудренным опытом ведая, что так начинают говорить не о пустом – о кровном. Сел, уложив руки на столешню, слегка согнувши стан. (Топилось по-черному, и слоистый дым клубился над самою головой.) И что-то прорвалось наконец, как давно зреющий нарыв, истекло облегчающим гноем освобождения.
– Мы давно… Я давно так не баял с тобою! – глухо сказывал Стефан, стоя на коленях и глядя в огонь. – Утонул, утопил себя в земном, суедневном, в земных величаниях… И тогда, с князем… Ныне и младенец тот мертв, и ни во что же пришло мое послабление сильному мира сего! И вот днесь думаю я непрестанно: то ли вершил, то ли деял? Туда ли устремил стопы свои? А он, Орфоломей, Сергий ныне, остался один, в лесу. Бури, волки, медведи, сила бесовская, гад нахожденье… И одиночество. Никого! И выдержал, выстоял, не ушел, не изнемог духом. И не изнеможет уже! Всегда был таким. Не величался ничем, не красовался собою. Не отступал от Господа ни на час, ни на миг с самого детства. Дитятею молитвы творил по ночам. Я мало взирал на него, все сам с собою… И он… любил меня. И любит теперь. Нет в нем обиды, ни величания. Словно единый из пустынножителей первых времен! Зрел на меня, а ныне, мыслю, я ли, в слабости своей, или он ближе ко Господу?
Тени огня ходят по острому лицу Стефана. Согнувшись, он похож на большую хищную птицу, крылья которой смяты и изломаны ветром.
– Ты мне мало баял о брате своем! – серьезно отвечает Алексий. Он еще не верит, но уже понял, что отмахнуть, забыть о Стефановом брате – не след. Надо испытать послухов, послать кого в Хотьков монастырь к игумену Митрофану, погоднее расспросить Феогноста, он видел обоих, толковал с братьями.
В Стефане ошибся он… несколько, не совсем. Стефан глубже, чем думал он еще день, час назад. А мудрования и ученость книжная Стефановы очень даже надобны церкви московской. Быть должно, что и брат таков же, как и Стефан… И все-таки!
– Владыко! – говорит Стефан, глядя в огонь. – Владыко! Слаб я и недостоин места сего. Отпусти мя в монастырь к брату!
Алексий глядит чуть удивленно. Думает. Молча отрицательно качает головою. Отвечает строго:
– Инок не должен бежать креста своего. В некий час и я скорбел и смутился духом, чая тишины келейной и страшась соблазнов мира сего, а ныне зрю: Господь в мудрости своей недаром поставил мя к служению многотрудному! Терпи, брат Стефан! Киновия брата твоего – не бегство от