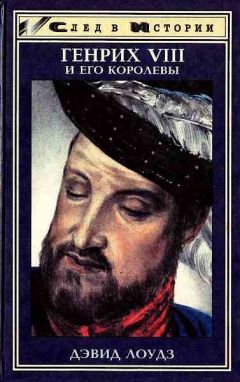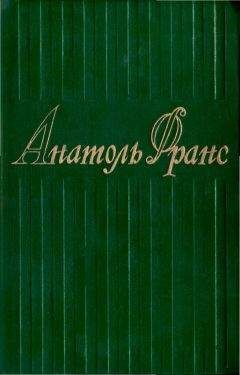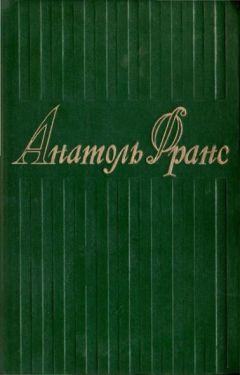Поднялась лавина сплетен и слухов, большинство из которых нельзя было проверить в то время, так что они остаются сомнительными и до наших дней. Самое большее, что можно было по этому поводу сказать, — нет дыма без огня, но, имея в виду накаленную атмосферу ренессансного двора, даже это вряд ли соответствовало истине. Обвинения, которые были выдвинуты в Вестминстер-Холлс против Уэстона, Норриса, Брертона и Смитона 10 мая, были довольно специфическими и требовали специального утверждения и особых актов судов Уйатхолла или Хэмптона в особые дни. За исключением Смитона, все они не признавали себя виновными по всем пунктам обвинения, но Кромвель постарался, чтобы жюри составили почти исключительно известные враги Болейнов. Их было найти нетрудно, и все они являлись влиятельными людьми, которым было что выигрывать или терять в подобном подозрительном спектакле. Все подсудимые были признаны виновными и должным образом осуждены. Саму королеву и лорда Рошфора судили два дня спустя в Грейт-Холле Тауэра, но в отношении Анны вердикт, вынесенный против ее сообщников, уже предопределял приговор. Понимая это, она воспользовалась своим положением и отвечала на обвинения в такой манере, которую даже ее враги признали убедительной и впечатляющей. Ее обвинили, приписав ей целый список супружеских измен, начиная с осени 1533 года, но к тому же и отравление Екатерины, попытку отравить Марию, насмешки над телесным недостатком короля и участие в заговоре с целью его убийства[115]. На обвинения в измене она могла лишь ответить, что встречи, о которых упоминалось, были вполне невинными как по намерениям, так и фактически. Разумеется, она встречалась и беседовала с упомянутыми мужчинами; все они были придворными, которых ей трудно было избегать. «Если какой-то мужчина обвинит меня, — заявила она, — я могу лишь сказать „нет“, и они не смогут представить свидетелей»[116]. Свидетели могли подтвердить факт встречи, но не то, что во время ее произошло. Обвинения в отравлении она попросту отвергла, и единственная улика против нее состояла в неосторожной угрозе, которая у нее случайно вырвалась.
Лондонский Тауэр и Ворота Изменников, около 1550 (А. ван Вингаэрд)Обвинения в заговоре против короля, в большинстве своем самые серьезные, являлись при этом и самыми туманными. Возможно, телесным недостатком, о котором шла речь, была импотенция, потому что в странной конфронтации с судьями оказался лорд Рошфор, подозревавший, что двор слышал, как Анна и ее дамы шутили над королем. За этим скрывался зловещий намек на колдовство, и эхо подобных же подозрений можно услышать в чрезвычайно изощренных описаниях ее приемов обольщения[117]. Специального обвинения в колдовстве выдвинуто не было, но давно установившееся в народе мнение об Анне, а также слова, произнесенные Генрихом после суда, создают впечатление, что он пытался объяснить свою долгую страсть, может быть, даже самому себе, исходя из подобных понятий. Колдовство, даже еще в большей степени, чем заговор, и в глазах очевидцев и вообще в накаленной атмосфере шестнадцатого века опровергнуть было невозможно. Ответы королевы на эти обвинения, как и на все прочие, были ясными и убедительными. «Она так умно и сдержанно отвечала на все, в чем ее обвиняли, оправдываясь своими словами так убедительно, как будто она никогда и не была во всем этом виновата», — писал один современный хроникер, почти убежденный ею против собственной воли. Под неусыпным взором короля, пэры послушно делали то, что от них требовалось, и она была осуждена. Парадоксально, но при этих исключительных обстоятельствах Анна обрела народную поддержку, которой никогда не знала в дни своего процветания. Даже ее старый враг Шапуис сообщал, что народ «поразился» стремительности и характеру ее падения и «странно говорил» о королевском правосудии. Король настолько сильно желал ее гибели, что даже посол императора не верил, что обвинения, выдвинутые против нее, достойны попели я В контексте всего этого приговора обвинение в инцесте с собственным братом кажется ненужной крайностью — лопатой смердящей грязи, которая должна была похоронить ее репутацию. Однако если не было никакой необходимости укреплять обвинения против Анны, это оказалось единственным серьезным обвинением против Рошфора, а Рошфор мог оставаться опасным после устранения своей сестры. Обвинение было не более правдоподобным, чем все остальные. Но он был признанным волокитой и допускал некоторую фамильярность, которая обычно существует между братом и сестрой. О суде над ним известно немного, и то, что против него свидетельствовала собственная жена, может оказаться выдумкой. Есть некоторые косвенные свидетельства того, что позже она признала его вину, но это мог быть единственный способ, с помощью которого ей удалось наладить отношения с королем. Высказывалось также предположение, что резкое изменение ее чувств было связано с разоблачением гомосексуальных отношений, в которые оказался вовлечен ее муж, но такая интерпретация, как кажется, более обязана восприятию двадцатого века, чем каким-либо точным фактам, касающимся Болейнов[118]. Подобно Анне, Джордж не признавал себя виновным и защищался с такой решительностью и остроумием, что камня на камне не оставил от обвинения. Но никакой защиты, однако, быть не могло. Генрих убедил себя, что жена, ради которой он так рисковал и подвергся таким поношениям, предала его, совершив инцест и ряд супружеских измен, и это убеждение передалось через Кромвеля и пэрам, и судьям. Для современного исследователя этот приговор был чисто политическим. Кромвель, Сеймуры и «арагонцы» заключили взаимовыгодный союз чтобы уничтожить Болейнов. Однако принять такую точку зрения — значит не учитывать эмоциональной организации Генриха: взрыв его ярости и чувство оскорбленной правоты в тот момент, когда всплыли все эти обвинения, был сигналом не только победы врагов Анны Болейн до начала какого-либо суда, но и внезапного пробуждения королевской совести. Он мог погасить собственное чувство вины единственным способом — убедить самого себя в том, что он является невинной жертвой мошенничества и обмана. Дело было не в том, что он попросту захотел Джейн Сеймур, он вполне мог бы реагировать точно так же, даже если бы никогда ее не видел в глаза. Он вновь нуждался в козле отпущения, и то, что Кромвель сумел использовать это, обеспечило успех его заговору.
Герцог Норфолк, выступавший как председатель суда на двух судебных заседаниях, послушно утвердил приговор, предоставив на усмотрение короля, будет ли Анна обезглавлена или сожжена заживо. По ходу дела обеим жертвам была определена милосердная (и почетная) смерть путем обезглавливания. В промежуток времени между вынесением приговора и казнью ни один из них не признавал себя виновным. Анна объявила, что готова умереть, поскольку невольно навлекла на себя немилость короля, но скорбела, как сообщал Шапуис, о невинных людях, которые также вынуждены умереть из-за нее[119]. Перед смертью она поклялась в своей невинности в момент причастия, и нет смысла сомневаться в искренности ее слов при подобных обстоятельствах. Рошфор подобным же образом принял свою судьбу, никак не показав, что считает ее заслуженной. Среди прочих только Марк Смитон сказал кое-что, что могло расцениваться как признание в некоей вине, поскольку он был единственным, кто признал обвинение в ходе суда. Объективно говоря, если Смитон был виновен, тогда виновна была и королева, по крайней мере в одном эпизоде, но кажется, есть все основания думать, что она невиновна ни в чем, за исключением того, что была слишком умна и сексапильна. Подлинные слова музыканта звучали таким образом: «Господа, я молю всех вас молиться за меня, потому что я заслужил смерть», — это могло означать все что угодно, но он, видимо, настаивал на правдивости своих предшествующих показаний, отчего в сложившихся обстоятельствах явно не выигрывал. Истина, вероятно, состояла в том, что Анна и Рошфор, а может быть, и другие, позволяли себе главным образом галантные игры, которые составляли неуловимую оболочку придворной любви. В результате границы между фантазией и реальностью оказались размытыми, что позволило Кромвелю грубо интерпретировать степень вероятности, которой они никогда не достигали. Наиболее опасны были шутки насчет короля. Если он был импотентом, то чьей же дочерью была Елизавета? Если такие слова и были произнесены, то они явно не имели в виду ничего серьезного, но, учитывая непредсказуемые реакции Генриха и острый глаз Кромвеля, они были в высшей степени опрометчивыми.
Осуждение королевы не повлекло за собой ослабления общего напряжения. Пока ее голова не слетела с плеч, Генриху нельзя было позволить ни минуты для размышлений или сожалений. Поэтому приговор продолжал подтверждаться бесчисленными слухами, часть которых, несомненно, возникала спонтанно, но часть призвана была нейтрализовать непредвиденную реакцию общего недоверия, которую подметил Шапуис. Джон Хессей, не слишком легковерный агент лорда Лисла, был одним из многих, кто не знал во что верить. Все оскорбления, которые когда-либо высказывались в адрес женщин, были, как он писал, налицо: