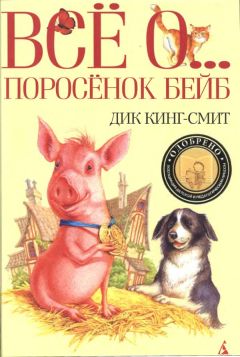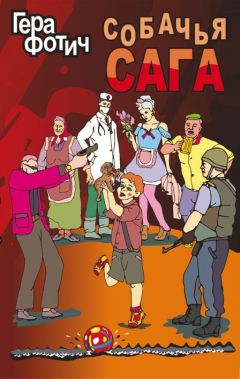была закрыта. Зашел ко мне и стал что-то объяснять или втолковывать. Так серьезно, напряженно, что я разволновался и ничего не понял. Во всяком случае не запомнил. Дорого я бы дал, чтобы восстановить тот разговор. Только осталось в памяти, как он повторяет, дважды: «Чего бы тебе это ни стоило. Чего бы тебе это ни стоило». Что «это»? Всю жизнь пытался угадать. Первую свою повесть назвал «Завет отца». Там к молодому человеку попадает записка, которую много лет назад оставил ему отец, как и мой, казненный в тридцать шестом году — только, разумеется, не своими, а японцами, на КВЖД. Неважно, не в сюжете дело. Повесть очень плохая. Но «мотор» в повести был: немое кино, в котором отец обращается ко мне с последними важными словами, губы шевелятся, а слова сливаются в неразличимый гул. Повесть следовало бы назвать «Зависть». Я завидовал своему герою.
— А что завещал ему отец в записке?
— Неважно. Всякую чушь. По вашей терминологии повесть — «сова» «совой», недаром она получила Сталинскую премию, что по нашим временам срамно. Ладно, идемте.
— Куда?
— Теперь к матери.
Шли аллеей к колумбарию. Марат рассказывал.
— Ее арестовали вскоре после отца. Я крепко спал, ночного звонка не слышал. Трясут за плечо. Яркий свет в глаза. Мама говорит, ласково: «Одевайся, Маратик. Поедешь с этим дядей». Целует меня. Кто-то скрипучий берет ее за руку, уводит в другую комнату. Всё. В следующий раз я ее увидел восемнадцать лет спустя.
— Выжила? — обрадовалась Агата.
— Как сказать…
Остановились в колумбарии, перед табличкой. Имя, годы жизни, овальная фотография на керамике: смеющееся молодое лицо с косой челкой по лбу.
— Она была солнечная, веселая, всё время пела или насвистывала, по утрам тащила меня делать зарядку, мы рубились в пинг-понг, ругались из-за спорных шариков… Она меня постоянно обнимала, тискала, тормошила, целовала. Если на людях — я вырывался, шипел: «Ну мам!». Мне, маленькому дураку, было стыдно.
Он покашлял.
— А в пятьдесят пятом вхожу к ней в комнату… Она у нас отказалась жить, у знакомой поселилась, ту раньше выпустили… И не узнал. Совсем. То есть вообще ничего похожего. Короткие седые волосы. Старуха старухой, а ей ведь не было и пятидесяти. Сиплый голос. В пепельнице горой окурки. Посмотрела снизу вверх, помахала рукой, разгоняя дым. Глаза тусклые. Я хотел ее обнять — и не решился. Затоптался на месте. Говорю: «Я каждое утро и каждый вечер о тебе думал». Задыхаюсь. Она мне в ответ: «А я о тебе не думала. Запретила себе». Почему, спрашиваю. «Иначе не выжила бы. Есть, говорит, будешь? У меня котлеты из кулинарии». И зашлась кашлем. У нее был туберкулез, тяжелый. Я устроил ее в писательскую больницу. Сначала навещал каждый день. Пытался расспрашивать — молчит. Рассказываю о своей жизни — слушает без интереса. И всё время курит, несмотря на строжайший запрет. Курит и кашляет.
— Неужели она вас ни о чем не расспрашивала?
— В самый первый день спросила, женат ли я. Я говорю, да, в следующий раз обязательно приведу Тоню, познакомлю. Мать мне: «А дети у вас есть?». Нету, говорю, мы решили, что рано заводить. Она: «Тогда не приводи». И всё. Я принес ей в больницу свои публикации: две вышедшие книжки, журналы с рассказами. Оставил. Положил на тумбочку, так они потом и лежали. Я думал, не прочитала. Наконец не выдержал, спросил. Она сказала: «Дрянь». Я после этого четыре года писать не мог… Что еще? Пробовал расспросить ее об отце. Ответила: «Что вспоминать?». Спрашиваю, а похож я на него, хотя бы внешне? «Нет». И больше ни слова. Через три месяца она умерла. Ночью, в приступе кашля…
Марат замолчал. Не стал рассказывать, как, напившись на похоронах, плакал и говорил жене: «Лучше бы она не возвращалась, лучше бы умерла в лагере». Потом, когда они ссорились, Тоня не раз поминала ему те слова. Она бывала жестокой, когда разозлится.
— «Руфь Моисеевна Скрынник. Тысяча девятьсот семь — тысяча девятьсот пятьдесят шесть», — медленно прочла Агата вслух, словно запоминая. — Красивое имя. Библейское. Дайте гвоздику. Я положу… Куда теперь?
— В дальний конец.
На площадке, где скрещивались аллеи, тоже торговали цветами. Цыганка в пестром капроновом платке сидела на оградке, поплевывала в кулак шелухой от семечек.
Подбежали две смуглые девчонки, лет по девять-десять. Одна схватила за штанину Марата, другая за ремень Агату.
— Дай десять копеек, мамка погадает! Не ходи, спытай судьбу! Уйдешь — беда будет! Не жидись, козырной, дай гривенник! — звонко, наперебой загалдели они.
— Отстаньте, а? — Марат отвел от себя чумазую ручонку. — Тут кладбище, не базар.
Но уже подошла «мамка», сверкнула золотыми зубами.
— На кладбище самое гаданье. Мертвые врать не дают, — сказала она хриплым голосом. — Дай двугривенный, кавалер. И тебе, и барышне погадаю. Деткам на хлебушек, вам на счастье.
— Я хочу, — объявила Агата. — Вот.
Достала из кошелька монетку.
Цыганка взяла ее руку, повернула ладонью — и Марат засмотрелся. Ладонь у Агаты была неожиданно нежная и, кажется, мягкая.
Девчонки прилипли с обеих сторон, тоже смотрели.
— Богатая не будешь, а счастливая будешь… За три моря уедешь… За князя выйдешь, — затянула-запела гадалка. — Сыновей нарожаешь… Старая-престарая помрешь, ни о чем не пожалеешь.
Агата осталась очень довольна.
— Класс!
Почесала ладонь — наверно было щекотно.
— Теперь ему.
— Давай другую монетку, с одной и той же нельзя, — потребовала цыганка, хотя уже получила свой двугривенный.
— Мне не надо. Идем!
Цыганка крикнула в спину:
— Всю жизнь будешь, как дурная собака, за своим хвостом гоняться! И помрешь, как собака, один! Никто к тебе на могилу не придет!
— И вам того же, — огрызнулся Марат, не впечатленный плохим предсказанием, а пожалуй что и проклятьем. Он в мистику не верил.
— «Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала», — отчаянно фальшивя пропела Агата. Слух у нее был чудовищный. — Вот так я и хочу. Прожить жизнь и ни о чем не пожалеть. Особенно о том, что хотела сделать и не сделала.
Марат был расстроен. Идиотское гадание сбило всё настроение.
— Охота вам всякую чушь слушать? Абсурд же. С одной стороны, «за князя выйдешь», с другой — «богатая не будешь». Лепит что на язык ляжет, даже не задумывается.
Агата нахмурилась. Ей хотелось, чтобы гадание сбылось.
— Князья бывают и бедные. Мышкин, например. Но хотелось бы какого-нибудь помужественней… — Махнула рукой. — Ладно, проехали. Кому третий цветок?
— Дяде Якову. Маминому брату. Это вон там.
Встали перед могилой. Гвоздика легла на плиту с вырезанным на граните скрипичным ключом. Дядя Яков Моисеевич преподавал в музыкальной