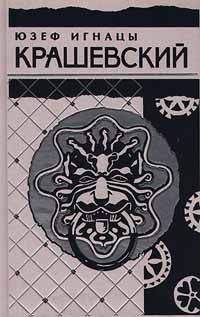покой, чёрт знает, где шляется!
– А если не пришёл вовремя на обед, – сказал кухмистр, глядя на часы, – то, видно, в еде не нуждается; и нечего ему дать, только объедки.
– Разве он что-то иное привык есть? – спросил слуга. – Только это ему и даётся…
– Пусть побудет один раз голодом, это научит соблюдать часы, – сказал кухмистр. – Я что, для него буду до ночи сидеть? Впрочем, пусть идёт к дьяволу, как не напомнит, не дам, а как напомнит, на это есть объедки, пусть грызёт кости.
– Постыдитесь так говорить! – прервала Анулька.
– Ну, чего нам стыдиться? Разве он здесь пан? Или что? Я его не знаю, – воскликнул кухмистр, – меня пани приняла и платит…
– И мне также, – сказал парень, садясь на лавку, – разве я должен знать, вернётся ли он!
– Это моё дело – обед приносить, – отозвалась хромая, – только дайте его мне, прошу.
– О! О! Подлиза! – сказал повар. – Рекомендуешься к сухому пеньку.
– Говорите что нравится, я прошу обед!
Дал себя как-то сломить пан кухмистр, слил остатки и совсем неинтересную еду поставил на поднос, который Анулька понесла как можно живей. Она потихоньку вошла в покой, накрыла столик, сняв с него осторожно книжку, поставила тарелку с супом и тарелочки поменьше, покашляла, ждала.
Орбека сидел онемелый, с глазами, уставленными в сад, не слыша ничего и не видя. Анулька с удивлением заметила, что глаза у него были как бы заплаканные, ей очень жаль сделалось несчастного. Она закашляла второй раз, он не обернулся, звякнула тарелкой, только тогда он увидел, что ему накрыли на стол. Какая-то грустная улыбка пробежала по его устам. У Анульки, глядя на него, навернулись на глаза слёзы.
– Поешьте, пан, что-нибудь, – шепнула она потихоньку.
– Благодарю тебя, ничего мне есть не хочется, – сказал он охрипшим голосом.
– Но вы ничего не ели.
– Не могу!
– Может, вы больны? – спросила она.
– Да, может, больной, но это пройдёт, это пройдёт… это ничего…
– Может, для вас что-нибудь другое сделать? Принести?
– Нет, нет, благодарю, ты добрая девушка, моя Анулька… ты одна…
Но сдержался, не докончил, что-то подумал, взял кошелёчек, достал несколько дукатов и протянул Анульке руку.
Та аж отступила, зарумянившись.
– А, прошу вас! – воскликнула она живо. – Вы сказали, что я добрая, и сразу хотите мне за эту доброту заплатить. О! Не делайте мне этой неприятности, прошу.
Орбека удивился и устыдился. Но… хотел объясниться.
– Спрячьте уж эти несчастные деньги, – почти плача, воскликнула Анулька.
Не было способа, пан Валентин, пристыженный, тихо извинился.
– Есть пани? – спросил он.
– О! Нет, все выехали на Саксонскую Гряду.
– А в покое пани нет никого? – спросил он. – Мне нужно туда войти… за книжкой.
– В который покой? – спросила Анулька.
– Как это? Почему? – прервал Орбека.
– Да, потому что пани один покой всегда закрывает.
Это поразило Орбеку, потому что раньше никогда ни один заперт не был, но, боясь дать заподозрить себя людям в недоверии, замолчал.
– Ну, это не нужно, – сказал он, – ничего, уже ничего.
Анулька ещё долго блуждала: собирала обед, суетилась, потом, видя его таким погружённым в грусть, вышла.
Но через четверть часа вбежала назад.
– Прошу вас, покой был закрыт, – воскликнула она спешно, – но пани, видно, забыла ключ в двери, и можете войти.
– Благодарю! – сказал Орбека.
После выхода Анульки он какое-то время боролся с собой, наконец, как бы толкаемый незнакомой силой, побежал по лестнице, прямо в тот таинственный покой.
Он уже потихоньку приближался к двери, когда увидел, что она немного приоткрыта, и услышал изнутри доносящиеся весёлые женские смешки. Были это две гардеробщицы пани, которые, также пользуясь оставленным ключом, осматривали, видно, укрытие; услышав шаги, они выбежали, смеясь до упаду, когда заметили Орбеку, и исчезли.
Валентин стоял ещё на пороге, неуверенный, что предпринять, потом снова, почти невольно, вошёл в будуар.
Этот покойчик, в котором для формы был коврик для молитвы, был красиво украшен, ничего в нём на первый взгляд ни таинственного, ни странного не показалось. Клумба из ваз заслоняла один уголок, за ним был проход; ведомый инстинктом, Орбека вошёл туда и… увидел в стене ловко скрытую, но достаточно, однако, заметную, дверь, которая не могла вести куда-нибудь, только в соседний дом, потому что этой стеной кончалась каменица. Всё-таки этого, когда покупал дом, не существовало.
Достаточно было её увидеть, чтобы найти подтверждение рассказу о шамбелянице, Орбека почувствовал себя убитым, в голове у него зашумело и почти бессознательным он вернулся, но на лестнице ему пришла какая-то мысль, он отступил, пошёл ещё раз, дверь покоя закрыл на ключ, а ключ спрятал в карман. Потом как пьяный от боли, гнева и жалости, пошёл к своим комнатам, бросился в кресло и начал плакать.
Беда мужчинам, которые плачут!
Мужская слеза с кровью, пожалуй, должна пролиться на великую жертву, никогда – на омовение повседневной боли жизни: есть она сокровищем, которым разбрасываться не годится.
Женщина ими живёт, муж ими умирать, пожалуй, должен.
Тот, кто на собственную судьбу проливает слёзы, есть осуждённым; не хватает ему той энергии, которая должна сопровождать вождей жизни, управляющих. Слеза есть приговором, который говорит: ты подавлен. Только над чужой недолей нам разрешено пролить слезу – да и та… должна идти с рукой, вытянутой для помощи. Лучше и правильней – проглотить её, а несчастному помочь.
Однако Орбека плакал. Это его украшает в нашем мнении. В его положении кто-нибудь другой был бы пронизан гневом и возмущением, он разжалобился, не над собой, но – над ней. Страдал над её падением больше, чем над своей недолей.
Сколько он так часов просидел, рассчитываясь со своей совестью, обвиняя только себя, весь грех перекладывая на свои плечи, чтобы его снять с её плеч, он сам не знал.
Когда уже прилично стемнело, Анулька принесла ему свечу, поглядела на измученного, и, видя его таким страшно побледневшим, спросила пару раз, что с ним, и, не получив ответа, вышла, испуганная и неспокойная.
Пани не возвращалась до поздней ночи, уже было около часа, когда, провожаемая какой-то целой бандой весёлых товарищей до ворот дома, она вышла из кареты и, напевая, вбежала по лестнице. Поздняя пора позволяла допустить, что Орбека уже лёг спать, не подумала даже об одиноком, и, позвав служанку, направилась в спальню. Неизвестно, какая необходимость заставила её дёрнуть за ручку будуара; найдя его запертым, рассеянная, она была уверена, что его сама как обычно закрыла, и ключ имела в кармане. Но, несмотря на самые старательные поиски в платьях и карете, нигде его не нашла. Поэтому была в каком-то очень плохом настроении.