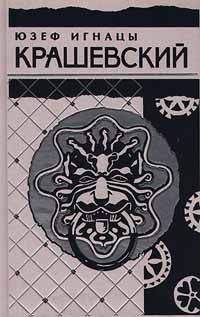было, приносили новое платье, появлялся новый поклонник… хотелось какой-то незнакомой роскоши.
Во всём каприз ею правил абсолютно, головка, открытая четырём ветрам, была сумасбродной, сердце спало, или давно уже было умершим.
Если бы не чрезвычайное послушание и мягкость Орбеки, не раз бы уже, может быть, дошло между ними до спора, но этот бедный человек имел характер, созданный для обмана, верил, во что хотели, и лишь бы не потерять дорогих иллюзий, готов был на всё.
Уже почти год прошёл с того времени, как Мира переехала в купленный дворец на Краковском, когда одного утра Орбека, который почти никогда гостей не имел, услышал стук в дверь. Через мгновение, довольно удивлённый, он увидел на пороге давно, очень уже давно не появлявшегося Славского.
По правде говоря, они встречались на улице, кланялись друг другу издалека, иногда перекидывались несколькими нейтральными словами, но капитан явно бывшего приятеля избегал, а Орбека не привык никому навязываться. Это посещение сильно его удивило, он сердечно был благодарен за него Славскому и приветствовал его с живой радостью, потому что уважал его и любил. Озадаченный Славский оглядел более чем скромное жилище анахорета.
– Что же ты в своём собственном дворце такой тесный выбрал себе уголок? – спросил он.
– Я? – сказал немного обеспокоенный Орбека, не желая выявить правды, потому что у него пани на свой двор всё уже забрала. – Я… ты знаешь, люблю жизнь скромную, не могу жить обширно… так привык и так мне лучше.
Славский ничего не отвечал.
– Знаешь, – отозвался он через минуту, – здесь немного душно, что, если бы вместе пошли пройтись в Саксонский Сад, или в Аллеи?
Действительно, комнатки были загромождены и давно не проветривались.
– Очень охотно, – сказал Орбека, – мне это доставит великое удовольствие… я просил бы тебя на завтрак… но… признаюсь тебе, что я из-за свободы и удобства один ем в привычном месте, поэтому можем пойти вместе.
– Я уже позавтракал, – ответил Славский, – но буду тебя сопровождать как свидетель.
Орбека добавил ещё, что сегодня предпочитает не есть, потому что чувствует себя не очень здоровым, и вместе вышли.
Когда они миновали шумную улицу, Славский взял его под руку, вздохнул и так сказал:
– Ежели ты сохранил ко мне прежнюю приязнь, прости мне, что не прошенный, а, наверное, также и неблагодарный, должен по долгу совести вмешаться в твои дела.
Позволишь говорить с тобой искренно, и, как бы ты не принял то, что скажу, не считай мне этого за зло? Есть грозные раны, к которым лекарь друг, хоть бы крик боли вызвал, должен прикоснуться.
Орбека сильно зарумянился, но молча только пожал руку приятелю, а спустя минуту раздумья сказал несмелым голосом:
– Мой дорогой, об одном прошу, не меряйте своей меркой чужое счастье. Несмотря на видимость, может, для людей непонятную, странную, я счастлив…
– Но если это счастье основано на лжи? – спросил Славский.
– Если я им добровольно живу, как правдой, чем мне это вредит? – спросил Валентин.
– Значит, ты не хотел бы, чтобы тебе глаза открыли? – сказал Славский.
– Была бы это услуга вовсе не дружеская, – сказал Орбека, – что мне от мучительной реальности, когда я счастлив мечтой? На что мне пробуждаться?
– С моей стороны мне это кажется долгом… дела дошли до этой степени.
Орбека начал заметно дрожать, лицо его побледнело, он опустил глаза, казалось, боролся с собой, молчал.
– Я предпочёл бы, чтобы ты не начинал этого, – сказал он, – но раз ты бросил такое многозначительное слово… пробудил во мне сомнение, привёл в беспокойство… будь что будет, лучше уж чарку выпить до дна, хоть горькая… а может, также в ней самой, против твоего сомнения, услада найдётся.
– Дай-то Бог, но я сомневаюсь, – сказал Славский. – Ты меня знаешь, я надеюсь; ты видишь, что я год молчал, не навязывался тебе ни с советами, ни с предостережением… не пробовал даже лечить болезнь, с которой тебе хорошо… Из этого уже можешь заключить, что не тороплюсь вдаваться в твои дела, а в целом в чужие, я должен иметь очень важные побуждения для перемены в поведении.
– Так я заключаю, – сказал Орбека, – но выдерживают ли эти побуждения мою критику и мой взгляд на них, – это вопрос. Поговорим.
– Да, по-мужски, смело, откровенно, открыто, – добавил Славский, – будь мужественным. Начну с того, как я дошёл до некоторых подробностей, потому что это мне немного объясняется из моего холостяцкого образа жизни.
Ты хорошо знаешь, какие щуплые я имею доходы, и что повседневным трудом должен жить со дня на день. Не удивит тебя то, что, кроме лекций рисования, с которыми трудно, как неплохой счетовод, имею место контролёра в банкирском доме Кабрита.
Орбека покраснел и смешался.
– Поэтому через мои руки проходят все кассовые деньги. Значительнейшая часть твоих капиталов помещена у этого банкира, остальное у Теппера и Шульца. Все эти дома в курсе дел своих общих клиентов. Таким образом дошёл я невольно до подробного подсчёта твоего наследства. Ты знаешь, какого его сегодняшнее состояние, после года скромной жизни, какую ты ведёшь? Ты дал Мире право неограниченно распоряжаться своими капиталами, ты спросил её, знает ли она, сколько вы съели в течение одиннадцати месяцев?
– Не знаю, – сказал Орбека, – догадываюсь о цифре очень высокой, но не превосходящей, наверное, или не на много, процент от капитала.
– Было бы это слишком удачно, – отвечал Славский, – ты имел пятьдесят тысяч червонных злотых, приросло бы тебе две тысячи пятьсот процентов, но как тебе кажется, сколько из пятидесяти убыло? Не считая долгов, которые ещё, кроме того, должны найтись…
– Но если бы я потерял десять тысяч дукатов, допускаю, – воскликнул Орбека. – Значит, что же?
– Ты потерял пятнадцать из капиталов, – сказал Славский, – cela va rondement, ещё несколько таких лет и не останется – ничего.
Славский ожидал произвести огромное впечатление этим балансом на Орбеку, неизмерно удивился, увидев его мягко улыбающегося со стоическим спокойствием, без следа малейшего волнения. Он остолбенел…
– Друг мой, – сказал пан Валентин, ведя его дальше, – то, что ты мне говоришь, меня ничуть не пугает. Я слишком старый, чтобы заранее не предвидеть, что счастье той разновидности, как моё, по своей натуре хрупкое, не может продолжаться долго. Но три года блаженной мечты, не достаточно ли этого? Я счастлив!
– Ты счастлив? – воскликнул Славский. – А поэтому мне не остаётся ничего другого, только просить у тебя прощения и уйти с распиской престыженному. Но позволь ещё добавить тебе два слова: не понимаю этого счастья, ты слепой, глухой?
– Как это? – спросил Орбека. – Ни то, ни другое… и зачем бы мне это пригодилось?