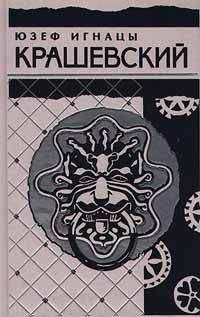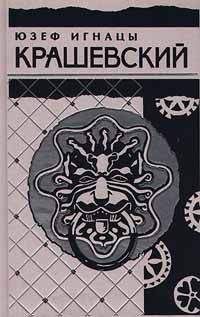Божью… Погибнут – совершат по ним службу наши капелланы! Но вы будете иметь их на совести, делайте с ними что хотите – спасайте, бросайте; это ваше дело. Я вынужден сдать их на вас.
Мудрый крестоносец, говоря это, очень хорошо чувствовал, что ксендз не будет иметь храбрости дать раненым умереть.
Ещё раза два старший обернулся к лежащим в сарае, что-то бормоча, потом Конрад бросил несколько слов Герону, и все быстрой рысью помчались к лагерю, оставляя Герона и Ганса одних под присмотром бабы и ксендза.
На мгновение ксендза Жеготу охватило отчаяние, он заломил руки, воскликнул:
– Милосердный Иисус, помоги! Что я тут предприму?
Он хотел убежать в замок, сделал шаг, и его охватило сострадание – он остановился, вернулся, подошёл к Герону, который сидел в сознании, с перевязанной ногой, не потеряв какой-то юношеской отваги и веры. Дзиерла с чрезвычайным прилежанием бдила над Гансом, которого то поила какими-то травами, отваренными в горшках, то что-то ему как ребёнку потихоньку пела и худыми руками делала над ним какие-то знаки.
– Безжалостные люди! Безжалостные! – крикнул ксендз Герону. – Вот вас оставили…
Тяжёлая поступть тевтонских коней стучала, всё больше отдаляясь.
– Ну, а милосердные найдутся, что нас приютят! – произнёс Герон, поглядывая на него. – Всё же бросить нас в этом сарае, открытом для четырёх ветров, было бы жестоким варварством, потому что я, как я, но Ганс тут на неделю, когда его ночной холод охватит, напрасно умрёт…
– Сарай, пожалуй, нужно обеспечить! – шепнул священник. – Так как о замке даже и не думайте. Сделаю что могу.
Герон пожал плечами.
– Отец, – сказал он смело, – я верю, что вы что-нибудь придумаете…
Ксендз Жегота, не говоря ничего, покачивая головой, ходил и всё чаще останавливался над Гансом.
– Дзиерла, – сказал он бабе вполголоса, – может он выжить?
Спрошенная сделала мину оракула, поглядела на больного, приложила ему руку ко лбу, показала на грубо перевязанную ногу, распростёрла руки, подняла их вверх, вздохнула.
– В хорошей избе, на удобном постлании, если бы его ночь и день не оставлять, – начала она живо, – почему бы не выжил? Разве из таких ран люди не выходят? А помните Дзюбу, которому внутренности нужно было вкладывать назад в брюхо, всё-таки жив, или Гельбу, что два раза ногу ломал, или Тырка, у которого кости сбоку вылезали? А этот молодой и милый парень имеет ещё столько жизни. Почему бы не выжил?
Ксендз задумался.
– Приду вечером, – шепнул он Герону, и так его бросил.
В гроде, где много лет о чужих не слышали, не видели, любопытство было великим, лихорадочным. Над остроколами напротив сараев висели люди в надежде что-нибудь увидеть, хоть не решались идти ближе. Когда прибыл ксендз Жегота, его осадили вопросами.
Но старик что-то неразборчиво пробубнил, отогнал навязчивых и объявил поджупану Телешу, что те раненые, что лежали в сарае, следующей ночью оставят его и поедут в свет, потому что тут им нечего делать.
Из всех любопытных самыми любопытными в гродке были две красивые Халки. Отец им всегда рисовал немцев как очень диких зверей, говорили много о том народе, что будило желание познать этот страх и диковинку.
Девушки занали, что это страшное племя одевалось изысканно, знало много вещей, которые иные не могли делать… что было хитрое, злобное и мудрое.
Часто случается, что то, что должно питать отвращение, именно странной противоположностью в человеском уме манит и притягивает.
Девушки, ужасно боясь немцев, однако, непомерно желали видеть хоть одного из них. Тут как раз появилась возможность.
Когда ксендз вернулся из сарая, обе Халки, прежде чем он дошёл до своего домика, заступили ему дорогу. Ксендз Жегота, который смотрел, как они росли, и почти с детского возраста их воспитывал, каждый день учил их молитве и песне, и любил как своих, был из-за них слабым, – делали с ним что хотели. Достаточно, чтобы ему улыбнулись, а щебетать начинали – старик забывал обо всём.
Тогда старшая Халка засыпала его вопросами.
– А! Что вы так заботитесь об этих противных немцах, которых наш пан так не терпит? Лихо их сюда принесло, ну, объявили им, чтобы выбирались прочь, и должны убраться.
– Как же, раз говорят, что они тяжело ранены? – отозвалась Хала.
Ксендз Жегота нетерпеливо передёрнул плечами.
– Пусть их там! – воскликнул он. – Если бы наш пан узнал, что коснулись стопами его земли, – вот было бы!
– Они страшные? Правда, что на голове носят рога? – боязливо вставила другая.
Ксендз невольно рассмеялся.
– Правда! Рога имеют на шлемах! – сказал он. – Но те два раненых ещё очень молодые… и похожи на людей.
– И поедут прочь, а мы их не увидим? – вставила другая. – Отец, как бы нам хотелось видеть их – хоть издалека!
Издалека!
– Что вам снится! Дети! А наш пан, если бы о том узнал!.. – сказал ксендз живо.
Престыженные дети опустили глаза и зарумянились.
– Разве уже и посмотреть на них грех? – шепнула одна.
– Их до ночи уже не будет! Они должны идти Прочь!
Прочь! – закончил ксендз, спеша домой, и не желая дальше вести такой грешный разговор.
От всех он почти так же отделывался, как от двух Халок, но что думал и планировал, в это было трудно поверить.
Само выполнение его милосердного намерения было неслыханно трудным, казалось почти невозможным, и однако, ксендз Жегота не отступал от него.
Он решил дать несчастным приют в своём домике. Дело шло о том, чтобы живая душа о том не знала. Ксендз сам должен был стоять на страже, закрыть дом и жить при жене, украдкой получать еду, запереть ворота двора.
Временами ему казалось это невозможным, потом снова – легко. Кроме Добруха, никто к нему не заглядывал, поджупана Телеша он мог обвести вокруг пальца и отвести его внимание…
Самым трудным из всего ему казалось ночное переселение той тыльной дверкой, уже не Герона, который с помощью сам мог дотащиться, но Ганса, которого нужно было нести. Довериться никому и принимать помощь людей не хотел, поэтому, пожалуй, он сам с Дзиерлой должен был взобраться на холм и вал, и ночью проскользнуть в домик. Больной бредил и громко кричал… но всё знающая Дзиерла могла ему что-нибудь дать для сна.
С этой упрямой мыслью ксендз Жегота провёл весь день, пошёл её поверить жене – потому что от неё не имел таин.
Старая пани закричала в тревоге, что, пожалуй, себя, её и всех хочет погубить.
Ксендз Жегота велел ей молчать.
Она расплакалась, и это не помогло… Сострадательному расположению к этим молокососам способствовало и то, что они были