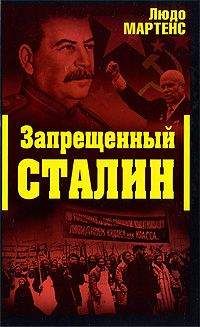— Вы правы, они частично изменяются, — согласился Есениус, — но это вовсе не означает, что исследование их не имеет значения для нас, врачей. Когда мы будем знать строение этих органов, нам легче будет представлять их нормальную деятельность. И нам станет гораздо легче определить болезнь, которая возникла в результате нарушения этой нормальной деятельности. И, наконец, непосредственное изучение человеческого тела расширяет и дополняет наши сведения, полученные из книг.
— Гиппократ и Гален поведали нам о человеческом теле все, что о нем следует знать, — категорически заявил Гваринониус.
Он произнес это тоном, не допускающим возражений.
Но Есениус был настолько убежден в своей правоте, что его не так-то легко было обезоружить. Он понимал: перед ним убежденный последователь Галена. И не какой-нибудь юнец, а большой ученый. С таким достойно сразиться! Это хорошо образованный противник.
— Я высоко ценю научные труды Гиппократа и Галена, но не могу смириться с тем, что во врачебной науке они достигли тех вершин, после которых идти уже некуда. Наоборот, надо идти дальше.
Он говорил это твердо и решительно, так же, как минуту назад говорил Гваринониус, и лицо его пылало от возбуждения.
Гваринониус было нахмурился, но тут же успокоился и сказал, хотя и не без некоторой насмешки:
— Я готов думать, что у вас в Германии существует сейчас бомбастовское направление во врачебной науке.
Есениус понял, что Гваринониус намекает на имя великого немецкого врача Теофраста Бомбаста из Гогенхейма, назвавшего себя Парацельсом. Учение Парацельса завоевало многих сторонников даже в Праге. Есениус к ним не принадлежал и поэтому спокойно ответил:
— Я не нахожусь в числе приверженцев Парацельса, хотя и признаю, что во многом он прав и его принцип «назад к природе» заключает большую мудрость. Однако сожжение Парацельсом трудов Галена одобрить не могу. При всем этом я убежден, что Гален не был, не есть и не может быть последним словом медицины.
Гваринониус смотрел на своего виттенбергского коллегу взглядом старого, опытного мужа, который несколько высокомерно, но вместе с тем благосклонно выслушивает иллюзорные речи легко возбуждающегося молодого человека.
— Что мы по сравнению с Гиппократом и Галеном? Букашки перед великанами. Наши плечи слишком слабы, чтобы мы могли сдвинуть с места эти скалы.
Но Есениус упрямо отвечал:
— А может, эти скалы не так уж крепко приросли к земле, чтобы их нельзя было сдвинуть? Я не хочу сказать, что мы должны отбросить их, как ненужный хлам. Нет, совсем нет! Их надо только немного отодвинуть, чтобы они не загораживали нам пути вперед.
— Yuveatus ventus! Юность — ветер! — произнес Гваринониус и улыбнулся, ибо, хотя упрямство Есениуса и немного рассердило его, ему все же нравился этот молодой ученый, так решительно отстаивающий свои убеждения.
Смерть Тихо Браге оставила глубокий след в доме Цурти на Погоржельце. Пани Кристина первые дни ходила сама не своя, и при каждом упоминании о покойном глаза ее наполнялись слезами. Но постепенно она смирилась с происшедшим и стала привыкать к своей вдовьей доле. Всю свою заботу она перенесла на детей. А поскольку в разлуке любовь крепнет и тоска становится невероятно острой, из всех детей самой желанной для нее сделалась Альжбета, жившая далеко от родного дома. Тоска по ней еще больше усилилась, когда пришло письмо от Тенгнагеля к Браге и Кристине — он еще не знал о смерти тестя — с сообщением о том, что Альжбета родила красивого и крепкого сына. Как радовалась пани Кристина этому известию и как тосковала по своему первому внучонку! Это незнакомое существо, которое в ее представлении было олицетворением всего прекрасного, было единственным светлым лучом на закате ее жизни. Когда же она его увидит? Родился он осенью, и в лучшем случае родители привезут его весной. А может, даже летом. И пани Кристина без конца говорила о дочери, зяте и внуке, отвлекаясь тем самым от воспоминаний о покойном муже.
Барбора Кеплерова, жившая в доме Браге вместе со своим мужем и дочерью с того самого времени, как они покинули Градец в Штирии, слушала панн Кристину с большим сочувствием, свойственным каждой женщине, готовящейся стать матерью.
Она была полна радостных надежд, хотя радость эта временами омрачалась воспоминаниями о ее первенцах, которые так рано навсегда покинули своих несчастливых родителей. Может быть, третий будет счастливее?
Еще одна забота не давала покоя пани Кеплеровой: боязнь за мужа, за его здоровье. Зиму он кое-как продержался, но весна его свалила. Он простудился и должен был слечь в постель. Кашель доводил его до полного изнеможения. Есениус прописал ему лучшие микстуры и сам наблюдал за их приготовлением в аптеке доктора Залужанского. Он долго опасался, что это чахотка. Но Кеплер, тоже высказавший подобное предположение, сам же своей веселостью рассеял опасения Есениуса. С какой легкостью вздохнул виттенбергский профессор, когда с наступлением весны состояние здоровья Кеплера улучшилось настолько, что императорский математик наконец встал и принялся за работу!
— Иоганн, — заговорила однажды Барбора, когда Кеплер вернулся из Града, — нам надо подумать о новой квартире.
Кеплер был подготовлен к этому разговору. Мансарда, которую они занимали в доме Цурти, была для них мала: всего лишь одна большая комната и крохотная каморка. Скоро должен появиться новый член семьи, и он займет в маленькой квартире куда больше места, чем любой взрослый.
— Попрошу императора, чтобы мне дали подходящее жилище. Здесь нам уже тесно, а кроме того… гм… ведь скоро вернется Тенгнагель… Понимаешь?
Она понимала. Она знала характер Тенгнагеля. Это был неуживчивый, самовлюбленный человек, ревниво относящийся к Кеплеру. Тенгнагель был убежден, что он такой же крупный математик и ученый, как и Кеплер, если не крупнее, и считал себя наследником Тихо Браге не только как ближайший родственник, но и как астроном. Работать с таким человеком под одной крышей было крайне тяжело.
И супруги условились приложить все старания к тому, чтобы как можно скорее переселиться в другое место.
Хлопоты Кеплеров о переезде на новую квартиру напомнили и Есениусу о том, что ему следует заняться тем же самым. Университет обещал ему квартиру в Лоудовой коллегии, только ее надо будет подготовить: побелить, а возможно, кое-что и перестроить. Но зимой все это трудно делать. Отложили до весны. Тогда Есениуса это не очень тревожило, так как за женой он собирался ехать, когда потеплеет. Но теперь откладывать было уже нельзя.
И он собрался к Бахачеку. Кеплер предложил пойти вместе с ним.
Когда Есениус изложил Бахачеку цель своего визита, тот стал его успокаивать:
— Профессорский совет уже решил предоставить вам квартиру в Лоудовой коллегии. Речь идет только о ремонте и побелке… Надеюсь, это будет не дорого стоить. Но дело в том, что в университетской казне сейчас хоть шаром покати.
— Если задержка только в этом, я бы мог помочь. Сам расплачусь с мастерами, а университет мне вернет, когда у него будут деньги.
— Вот и прекрасно! — воскликнул успокоенный Бахачек. — С таким предложением мы можем хоть сейчас идти к ректору Быстржицкому. Разумеется, не обязательно сию же минуту, но, во всяком случае, уже сегодня мы можем все решить. Прежде всего нам не мешает немного подкрепиться.
Бахачек ударил несколько раз в ладоши и, когда явился слуга, распорядился подать пива.
— Надеюсь, хмельное лучше слез, не так ли? — улыбнулся Бахачек своим гостям, когда слуга вышел. — У меня уже слюнки текут.
В этот момент кто-то без стука отворил дверь.
Бахачек удивленно оглянулся, думая, что это слуга. Однако это был не он.
— Ах, это ты, Симеон? — добродушно воскликнул Бахачек. — Приветствую тебя. У тебя какие-нибудь новости?
В дверях стоял человек среднего роста, в рваном платье. В одной руке он держал потертую меховую шапку, в другой — посох. За плечами висела холщовая котомка. Из грязных башмаков, привязанных к ногам веревками, высовывались пальцы. Лицо у него было заросшее, с неопрятными усами и длинной бородой цвета соломы. Такого же цвета растрепанные волосы спускались до самых плеч. Глаза странно блестели.
Он заговорил пророческим голосом:
— Мир дому сему. Бог наш и спаситель Иисус Христос повелевает нам напоить жаждущих и накормить голодных. Живем мы не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. А живем мы для того, чтобы служить богу. Посылает бог к вам, почтеннейший и ученейший профессор, своего раба, чтобы завтра вы позаботились о нем так, как заботится отец наш небесный о птицах, которые восхваляют его своим пением.
Молодой человек умолк.