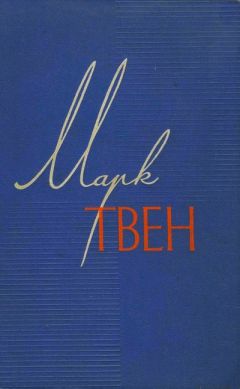Она чистосердечно отвечала на все вопросы и рассказала, как она видела ангелов и что они говорили ей; и слова ее были так непринужденны, убедительны и искренни, в них звучала такая жизненная правда, что даже эти черствые, бывалые судьи забылись и сидели неподвижные и безмолвные, до конца следя за ее рассказом с каким-то восторженным любопытством, словно очарованные. А если вы моему показанию не верите, то загляните в летописи: там прочтете вы об одном очевидце, который под присягой заявил на суде Восстановления, что она изложила свой рассказ «с благородным достоинством и простотой», а относительно впечатления, вынесенного слушателями, – он повторяет приблизительно то же, что сказано мной. Семнадцать лет было ей – и она была одна; и, однако, она нисколько не боялась, но смело смотрела на этих ученых законоведов и богословов; и победила она их не школьной наукой, но только присущими ей от природы чарами молодости, искренности, нежной мелодичностью голоса и красноречием, источником которого было сердце, не разум. Сколько было красоты в этом зрелище! О, если бы я мог воскресить его перед вами во всей полноте: я знаю, что сказали бы вы тогда.
Как я уже упоминал, она не умела читать. Однажды они принялись травить и осаждать ее доказательствами, рассуждениями, возражениями и иными бессодержательными и многословными цитатами из различных авторитетных и знаменитых книг по богословию; наконец у ней не стало терпения, и, резко повернувшись к ним, она сказала:
– Я не сумела бы отличить А от Б; но вот что я знаю: явилась я по приказанию Небесного Царя, чтобы спасти Орлеан от англичан и короновать в Реймсе короля, а вы толкуете о пустяках.
Разумеется, для Жанны это были тяжелые дни – и утомительные для всех участников. Но все-таки ей выпала наиболее тяжкая доля, потому что у нее не было праздников; она всегда должна была присутствовать и выжидать долгие часы, тогда как тот или другой из следователей мог отлучиться и отдохнуть, если чувствовал усталость. И тем не менее она не казалась ни утомленной, ни раздраженной и лишь изредка давала волю своей досаде. Изо дня в день она сражалась с этими опытными мастерами схоластики, обнаруживая неизменное спокойствие, терпение и бодрость, и каждый раз умела за себя постоять.
Однажды доминиканский монах вздумал ошеломить ее вопросом, который заставил всех насторожить уши, а я, признаюсь, затрепетал и сказал себе, что на этот раз бедная Жанна попалась, потому что ответить на такой вопрос невозможно. Хитрый доминиканец начал тоном напускной небрежности, как будто спрашивал он о каких-то пустяках:
– Ты утверждаешь, что Господь пожелал избавить Францию от английского владычества?
– Да, такова Его воля.
– Тебе нужно войско, чтобы пойти на помощь к орлеанцам, не так ли?
– Да, – и чем скорее, тем лучше.
– Бог всемогущ и может сделать все, что пожелает, не правда ли?
– Конечно. Никто в этом не сомневается.
Тут доминиканец внезапно поднял голову и с торжеством кинул свой вопрос:
– В таком случае скажи мне: если Он пожелал освободить Францию и если Он может все, что пожелает, то для чего понадобилось войско?
Эти слова вызвали заметное движение в рядах: всякий старался вытянуть шею и подносил руку к уху, чтобы лучше расслышать ответ. А доминиканец самодовольно тряхнул головой и посмотрел вокруг себя, чтобы насладиться успехом, потому что одобрение отразилось на всех лицах. Но Жанна была невозмутима. Ни одной нотки беспокойства не было слышно в ее голосе, когда она сказала:
– Он помогает лишь тому, кто помогает сам себе. Сыны Франции будут сражаться, а Он дарует победу!
Все лица озарились мимолетным восторгом, точно проскользнул по ним солнечный луч. Даже доминиканцу понравилось, что она так ловко отразила его мастерский удар. И я слышал, как один почтенный епископ пробормотал в присущем тому суровому времени стиле: «Ей-богу, дитя сказало правду. Он пожелал, чтобы Голиаф был убит, и послал такого же ребенка, как она».
В другой раз, когда допрос успел уже на всех, кроме Жанны, нагнать тоску и сонливость, за дело взялся брат Сеген, профессор богословия университета в Пуатье. Это был человек угрюмого и саркастического нрава; он начал осаждать Жанну разными язвительными вопросами – а говорил он ломаным французским языком, потому что он родом был из Лиможа.
– Как это ты могла понимать своих ангелов? – спросил он под конец. – На каком языке они говорили?
– По-французски.
– Скажите пожалуйста! Какая честь нашему языку – весьма лестно! И чистое произношение?
– Да… безукоризненное.
– Безукоризненное, вот как? Ну конечно, тебе ли не знать. Может быть, их произношение было лучше твоего, а?
– Насчет этого я… я ничего не могу сказать, – ответила она и хотела продолжать, но остановилась. Затем она добавила, как бы говоря с собою: – Во всяком случае, лучше вашего.
Как ни невинны были ее глаза, но в них промелькнула усмешка. Пронесся гул одобрения. Брат Сеген, задетый за живое, резко спросил:
– Веруешь ли ты в Бога?
Жанна ответила с задорной небрежностью:
– О, еще бы… и, вероятно, лучше, чем вы.
Брат Сеген потерял терпение и начал без устали язвить ее и наконец обрушился, не скрывая долее своей досады:
– Прекрасно. Если твоя вера в Бога так велика, то вот что я скажу тебе: Бог не желает, чтобы кто-либо уверовал в тебя, не увидев знамения. Где твое знамение? Покажи нам!
Это зажгло Жанну; она вскочила со своего места и воскликнула с одушевлением:
– Не для того пришла я в Пуатье, чтобы показывать знамения и творить чудеса! Пошлите меня в Орлеан, и у вас не будет недостатка в знамениях. Дайте мне войско – хоть какое-нибудь – и отпустите меня туда!
Глаза ее метали молнии… о маленькая героиня! Не встает ли она перед вами как живая? Громкие возгласы сочувствия наградили ее слова, и она села на свою скамью, зардевшись как маков цвет: ее деликатная душа всегда боязливо избегала похвал.
Ее речь, как и происшествие с французским языком, создали два пункта, неблагоприятные для брата Сегена и ничем не повредившие Жанне; однако, при всей своей язвительности, он был человек благородный и честный, как вы можете узнать из истории; на суде Восстановления он мог бы умолчать об этих двух неприятных эпизодах, если бы пожелал; но он не сделал этого, а, напротив, чистосердечно рассказал обо всем.
В один из последних дней этого трехнедельного заседания длиннополые богословы и профессора устроили обстрелы по всей линии, буквально закидав Жанну возражениями и доводами, почерпнутыми из всевозможных творений старинных и знаменитых писателей римской церкви. Ее чуть не задушили. Но наконец она сумела выкарабкаться и отразить натиск, сказав:
– Послушайте! Книга Божья гораздо ценнее всех тех, на которые вы ссылаетесь, и я опираюсь на нее. И поистине в книге сей есть многое, чего ни один из вас не может прочесть, несмотря на всю вашу ученость!
С самого начала она, по приглашению, жила у госпожи де Рабато, жены советника парламента Пуатье; и в этот дом по вечерам собирались знатные горожанки, чтобы повидать Жанну и побеседовать с ней; стремились туда также старые законоведы, советники и ученые парламента и университета. И эти важные господа, привыкшие взвешивать каждое новое и странное явление, осторожно к нему присматриваться, вертеть его так и сяк и недоверчиво пожимать плечами, приходили каждый вечер, все более и более подчиняясь тому таинственному влиянию, тому неуловимому и неопределимому обаянию, которое было высшим даром Жанны, – тому неотразимо убедительному очарованию, которое чувствовалось и признавалось знатными и незнатными, хотя ни те, ни другие не могли его объяснить или описать; и все они, один за другим, сдавались, говоря: «Дитя это послано Богом».
День-деньской Жанна должна была терпеть неудобства, присутствуя на верховном суде и подчиняясь строгим правилам судебной процедуры; ее судьи распоряжались всем по своему усмотрению. Но вечером можно было видеть обратную картину: Жанна сама становилась председательницей, получала свободу слова, а те же судьи стояли перед ней. Легко понять, к чему это приводило: каждый вечер она своим обаянием разрушала все возражения и препятствия, воздвигнутые стараниями их трудового дня. В конце концов она склонила всех судей на свою сторону, и благоприятный приговор был вынесен единогласно.
Интересное зрелище представляла собою зала суда, когда председатель читал приговор со своего высокого кресла: сюда собрались все знатные горожане, которым только посчастливилось получить пропуск и найти себе место. Сначала были выполнены некоторые торжественные церемонии, обычные в таких случаях; затем воцарилась тишина и последовало чтение приговора; среди глубокого безмолвия можно было расслышать каждое слово даже в самых далеких углах залы.
«Установлено и сим доводится до всеобщего сведения, что Жанна д'Арк, по прозванию Девственница, – добрая христианка и добрая католичка; что ее нрав и ее речи не изобличают ничего, противного вере; и что король может и должен принять предлагаемую ею помощь, ибо отказаться от таковой значило бы прогневить Дух Святый и признать себя недостойным Божественного Промысла».