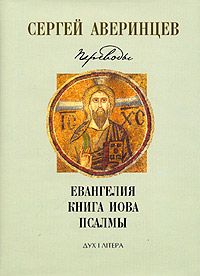Дети не знали, что это была баня Раубича, выстроенная в «сказочном» стиле, но, дрожа, чувствовали это сказочное и страшное. Видимо, сюда, к этим воротам, должны были приезжать, чтоб погибнуть: вечером — светлый день, а перед рассветом — черная ночь.
Из темного туннеля дороги долетел редкий стук копыт, а потом появилась сама ночь, как ей и надлежит, на черном коне и в черном плаще.
Конь шел мерной поступью, а всадник сидел на нем, склонив голову, и длинный черный плащ, похожий на обвисшие огромные крылья, прикрывал репицу животного.
— Вот кого вызывали, — шепнул Кондрату Андрей.
Мальчики не удивились, узнав ночь в лицо, узнав эти длинные усы, эту рукоять пистолета, которая выглядывала из переметных сум.
Всадник подъехал к частоколу и с минуту постоял перед ним. Потом, не поднимая головы, медленно снял ружье и трижды, с большими интервалами, стукнул прикладом в доски ворот.
…Не ожидая больше ни минуты, дети в страхе бросились бежать.
Они не помнили и не знали дороги, не обращали внимания на усталость, от которой резало в груди, не помнили, где перелезли ограду. А может, ее и совсем не было? Они бежали и опомнились только на знакомом перекрестке, от которого до Загорщины было не больше двух верст.
* * *
Было темно. Пахло березовыми вениками. Потом вспыхнул огонек. Рука с железным узорчатым браслетом на запястье поднесла «серничку» к толстой восковой свече. Потом к другой. К третьей.
И тогда другая рука, загоревшая до горчичного оттенка, сняла со стола украшенный серебряными насечками пистолет. Спрятала под стол.
— Боишься? — с иронией спросил Раубич, сбрасывая плащ.
— Берегусь, — сказал Война.
Раубич поставил на стол лукошко.
— Перекуси.
Исполосованное и изрезанное страшными шрамами лицо улыбалось.
— «Правда ль, что Бомарше кого-то отравил?» — спросил Война.
И хозяин бани ответил в тон ему:
— «Гений и злодейство — две вещи несовместные».
— Знаешь классику, — сказал Война.
Они сидели за одним столом. Война ел, искоса и настороженно поглядывая на собеседника. Его черные брови были нахмурены.
А Раубич сидел напротив, и его лицо оживляла ироническая улыбка. Большие, совсем без райка, темные глаза спокойно наблюдали, как пальцы Войны обламывали куриную ногу.
— Изголодался ты, братец.
Причудливо изломанные, высокомерные брови Раубича дрожали.
— И так двадцать лет, — сказал он. — Боже мой, сколько страданий! И главное — напрасно. Все время спать одним глазом. Все время недоедать.
— Лучше недоесть, как ястреб, чем переесть, как свинья.
— Намек? — спросил Раубич.
— Ты что? — сказал Война. — Нет, кум, тебя это не касается. Ты тоже не тихая горлинка, тоже «хищный вран» над этой полуживой падалью. Это не о тебе. Это о тех, кто зажрался, кто забыл.
Они смотрели друг на друга. Предбанник, освещенный язычками свечей, был неплохой декорацией: выскобленные до желтизны бревна стен, пучки мяты под потолком, широкие лавки, покрытые мягкими красными ковриками, стол, на столе еда и обливной кувшин с черным пивом, а у стола два настороженных человека.
— В конце концов, кто меня выручил, раненного, — сказал Война, кончая есть, — кто подобрал в овраге? Кто выходил? Кому же может больше верить Черный Война?
— А ты не гордись, Богдане, — жестко сказал Раубич. — Я тогда не знал, что ты Черный Война. Просто видел твою перестрелку с земской полицией. А у меня, куманек, с этой публикой свои счеты. Да и потом… когда шестеро нападают на одного, правда не на их стороне.
— Рыцарь, — сказал Война. — Ты же смотри, рыцарь, не забудь предупредить «голубых», что меня видели в округе.
— Предупрежу, — спокойно сказал Раубич. — У меня тоже есть то, чего нельзя ставить на карту.
Война сворачивал самокрутку. Изувеченные пальцы плохо слушались хозяина.
— Дай я, — сказал Раубич.
— Не надо. Во всяком случае, один палец у меня здоровый. Тот, который ложится на курок.
— Война, — сказал Раубич, — не рискуй собой, Война. Подожди немного. Час приближается. А ты можешь не дожить. Ты будешь нужен живой, а не мертвый. Пересиди год-два. Место я тебе найду. Отдохни. А потом я тебя позову.
Тень головы Войны неодобрительно качнулась на стене.
— Ты неплохой человек. Но я говорю — нет. Потому что ты ищешь друзей. А друзья продадут. Человек — быдло. В отряде — из троих один изменник. И потом — у меня нет времени. Старые солдаты живут, пока идут. Если я присяду, я не поднимусь, — такая усталость в моих костях. Я подаю тебе знак и прихожу сюда, когда уже совсем невмоготу. Я сплю здесь как человек, но потом мне снова тяжело привыкать к настороженным глазам, к дождю, к своей берлоге… как двадцать лет тому назад.
Он прикрыл глаза.
— Сегодня я расскажу тебе что-то, — не очень охотно сказал он. — Ты помнишь бунт в тридцатом году?
— Да. Только тогда я был иным и не понимал его.
— А я понимал. Мне тогда было девятнадцать, и я верил в людей. Верил в бунт, в наше восстание, в то, что люди не изменят. Верю я в это теперь или нет — мое дело. Золото — самый грязный металл, однако из него делают корону, и ее хозяин с мозгами каптенармуса получает право сидеть на человеческой пирамиде, измываться над людьми, мозоли которых он не стоит. Горностай — подлый и алчный зверь, однако из его шкурок шьют белоснежную мантию, и ее хозяин почему-то получает право помыкать своим народом и множеством других.
Война положил на стол тяжелую ладонь.
— Я верил, что остальные думают, как я. Видимо, потому, что я любил свое Приднепровье и верил, что мои друзья желают ему добра. А потом началось. Прежде всего изменила эта сволочь, Хлопицкий. Диктатор восстания тысяча восемьсот тридцатого года. Наполеончик… Потом другие. Разгул подлости и животного страха… Нечего удивляться, что нас разбили, что мужики нам не верили. Но я верил. Через год я пришел к некоторым из друзей и сказал, что время начинать сначала. И увидел, что один разводит капусту, а второй служит столоначальником. Увидел пустые от ужаса глаза… А они ведь были совсем такими, как я. И я понял: они остановились в ненависти. Что мне было делать? Начальники предали. Друзья тряслись. Народ покорно тянул ярмо. Все, во что я верил, было, выходит, сказкой для глупых детей, а моя мечта — поломанная игрушка.
Он улыбнулся.
— Я был молод и горяч. Один так один. И я решил: восстание будет жить, пока буду жить я. Должна же быть правда!
Теперь в его словах звучала наивная, но твердая гордость.
— И вот оно живет. Они думают, что задушили его, а оно живет, двадцать лет звучат его выстрелы. Какой еще мятеж держался столь долго?! Потому я и сплю одним глазом, потому остерегаюсь. Оно должно жить долго… пока не подстрелят меня. Мне нельзя останавливаться. Иначе получится, что я даром жил.
Вздохнул.
— Иногда мне тяжело. Я гляжу издали на твоего Стася. Гляжу на твою Наталью. На Франса. На Майку. Я люблю детей. Иногда думаешь, что сопротивление ни к чему не ведет. Можно бросить все и жить… Но потом я вспоминаю, что каждый мой выстрел — это пощечина тем, с пустыми глазами… И вот потому мне с тобой не по дороге. Я не могу ждать.
— Хорошо, — сказал Раубич. — А сейчас я пойду, ты уже совсем засыпаешь… Спи спокойно, кум.
— Почему же не спать? Буду спать. Инсургент спит, а восстание продолжается.
Когда первая птица тенькнула в кустах, никто не отозвался. И это означало, что был август, месяц жатвы, и птицы стали ленивее.
Такая, наверно, холодная роса! Так не хочется оставлять гнездо! Кто это там отозвался? Ах он неугомонный!.. Хотя бы еще минутку! Ми-ну-точку!
Росы действительно были холодными. Листики сирени, густо покрытые ими, казались серыми. Серый, туманный пробивался сквозь листву свет.
Встряхни ветку черемухи — студеный и даже колючий, как дробь, дождь промочит с головы до ног.
В сером свете вывели коней на темный от росы гравий. Логвин, зевая, смотрел, как Кондрат и Андрей запрягают в маленькую, игрушечную коляску двух шотландских пони. А те запрягали и не переставали удивляться животным. У пони были чубчики и такие доверчивые глаза.
Худой, подтянутый Логвин был доволен тем, что не придется ехать. Он постоит-постоит, а потом пойдет и доспит часок-другой. Пускай себе едут одни. Кто обидит детей? Дети — улыбка божья. Их обижать нельзя.
И потому Логвин довольно ухмылялся. Разбудили девочек, швырнув горсть песка в окно первого этажа. Они оделись быстро и, потворствуя капризам Майки, вылезли через окно и, конечно, сразу же промокли. Потому их под общий хохот пришлось усаживать в коляску и укутывать верблюжьей попоной. Так они и сидели, словно близнецы. И приятно было смотреть на горделивое лицо Майки и свеженькую мордочку Яни.