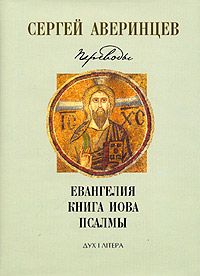Я, жывучы, валoў нажыву,
А цябе, сынoчак, увек не знайду.
Песня летела над морем разнотравья, и всем было жаль старого отца, но так и подмывало самим пойти в лес, на волю, под «волчье солнце».
Потянулись мягкие холмы, поросшие вереском. Солнце поднималось за спиной, когда они взобрались на один такой холм, а по другую сторону еще лежали тень и туман. И тут перед глазами детей вспыхнула белая широкая радуга, слабо-оранжевая снаружи, серо-голубая изнутри. Потом солнце оторвалось от земли, и белая радуга исчезла, и вереск лег перед глазами, украшенный миллионами паутинок, которые сверкали в каплях росы.
— Что же это она? — жалобно спросила Майка. — Зачем исчезла?
— Погоди, — сказал Андрей, — сейчас будет тебе награда.
И награда появилась. На паутинках на росном вереске вдруг возникла вторая радуга. Вытянутая, она лежала прямо на траве, сияла всеми цветами, убегая в бесконечность от их ног.
— Ты откуда знал? — спросила Майка уважительно.
— Знал, — ответил Андрей.
Майка вздохнула от зависти.
…А потом, как продолжение этой феерии, над вереском, над холмами, поросшими лесом, на месте слияния Папороти и второй речушки, на высокой горе между ними, возникли развалины — три башни и остатки стен.
Вброд перешли Папороть. Майка, Алесь и Андрей взобрались на одну из башен. Стояли наверху и смотрели на необъятный мир, который, казалось, весь принадлежал им. Зубцы башни седели полынью, коричневые от ржавчины арбузы ядер были кое-где словно вмурованы в кладку. А дальше была Папороть, луга, леса, мир.
— Этот замок однажды взяли крестьяне, — сказал Алесь.
Майка невольно взглянула на Андрея.
— А что ж? — ответил Андрей. — Что мы, немощные?
А снизу маленький Кондрат кричал брату:
— Слазь уже, голота! Слазь!
— Слазь! — кричал Мстислав. — Слазь, тиун Пацук![60] Тут тебя оборотень с белоруким Ладымером ждут!
Разозлившись на «тиуна Пацука», Андрей полез вниз.
А они стояли вдвоем и смотрели на землю.
— Ты прочел? — спросила она.
— Прочел.
— Красиво здесь?
— Очень… И… знаешь что, давай будем как брат и сестра.
— Давай, — вздохнула она. — На всю жизнь?
— На всю жизнь.
После того как поели в тени одной из башен, Андрей предложил податься в лес, потому что там, на этой самой Папороти, живет мельник, колдун Гринь Покивач.
Солнце поднималось все выше. Яростный, лохматый шар над землей. На горизонте легла уже белая дымка, над которой плавали в воздухе, ни на что не опираясь, верхушки деревьев и башни загорского замка.
Лес встретил прохладой, звоном ручьев, солнечными зайчиками.
Вскоре Павлюк заметил маленькое лесное озерцо, спрятанное между деревьями. И тут все поняли, что никакой мельник им не нужен. Распрягли лошадей, а сами разлеглись в густой траве. Сияло солнце. Над зеркальной поверхностью воды стрекозы гонялись за своей тенью. Замирали в воздухе, чтоб обмануть тень, а затем бросались на нее. А ниже их по поверхности скользили водомерки. Их лапки опирались на воду и прогибали ее, и потому по дну озерка от каждого маленького конькобежца бежало по шесть маленьких пятнышек тени с ореолом вокруг каждого пятнышка.
Алесь и Майка, прихватив с собой Яню, решили обойти озерцо вокруг, чтоб посмотреть, откуда оно берет воду. Наткнулись на ручеек, который бежал среди свежих мхов по дну влажного оврага, и пошли навстречу течению. Здесь и деревья были могучие, солнце почти не пробивало их широколистой сени. Местами вода образовывала зеленоватые лужицы.
…Гулко, словно из пушки, вырвался из трясинистой лежки дикий кабан. Бросился в чащобу.
Испугавшись, дети поспешили дальше, теперь уже не оглядываясь по сторонам. А на одном из валунов, чуть не над их головами, стояли Корчак и Гринь Покивач, смотрели, как маленькие фигурки пробираются по темному дну.
Когда они скрылись в зарослях орешника, бледный Корчак перевел дыхание, сжимая в руках Покивачеву двустволку.
— Одного знаю, — шепотом сказал он. — Троюродный племянник нашего Кроера. Этого бы…
Покивач испугался:
— Ты что?
На щеках у Корчака ходили желваки.
— Их всех под корень… панят, княжат…
— Ну и дурак, — сказал Гринь. — С ними крестьянская девочка. Да и сами они чем виноваты, дети? Ты лишнюю злость из себя выпусти, задушит.
— Лишней злости не бывает, — сказал Корчак. — Идем отсюда.
Густые заросли орешника и волчьего лыка поглотили их.
А дети тем временем нашли в самой глубине оврага, под плотным покровом ветвей орешника, сквозь который пробивался к воде единственный лучик, криничку.
Криничка, спокойная на поверхности, выбрасывала из глубины своей песчаные фонтанчики. Вечно живые песчинки двигались, растекались по дну от середины жерла, прыгали. А рядом второй, малый «гейзер», почти на поверхности, тоже тужился родить воду, но у него не хватало сил, и он только иногда выпускал из себя сытые пузырьки.
— Отец воды, — шепотом сказала Майка.
— Отец вод, — поправил Алесь. — Вот так и Днепр начинается где-то.
— Живая вода, — сказала Яня.
Она опустилась на колени и сломала пальцами кристальную поверхность.
— Пейте. Будете жить сто лет.
Они легли на животы и долго пили воду, такую холодную, что от нее ломило зубы.
А вокруг был зеленый и черный полумрак, и лишь один луч падал меж их голов на невидимую воду, мягко золотя дно.
В один из дней — стояла середина августа — отец с матерью о чем-то долго шептались перед ужином, а лица у них были встревоженные и торжественные. Наконец, когда убрали со стола, мать сказала:
— Дедушка прислал с нарочным письмо, сынок.
Алесь поднял глаза.
— Он просит, чтоб ты приехал к нему… один.
Отец вынул из бумажника письмо и прочел:
— «Мизантропия моя и хандра разыгрались. Мне тяжело видеть новых людей. Потому и вас не звал. Лик подобия божьего мне опротивел, так мало в нем божьего. Однако поскольку настроение сие все продолжается и конца ему не видать, а в животе нашем бог волен каждый день, то внуку моему Александру надлежит знать, во владение чем он вступит после моей смерти и успешного отхода в то, что после нее. Поэтому пусть приезжает ко мне на один-два дня…»
Мать закрыла глаза рукой, пальцы ее дрожали.
— Я знаю, Georges, почему он не желает видеть тебя. Это из-за Кроера. Из-за него он и меня не любит.
— Нелепость, — сказал пан Юрий. — Бессмысленность. Ах, черт старый, семьдесят восемь лет, а он скоморошничает, как подросток. У него капризы, как у беременной! Ты для него святоша, я — собачник, непригодный к делу.
— Georges! При ребенке?! Ты что?
— А потому, милая, — неожиданно твердо сказал пан Юрий, — что издеваться над собой я никому но позволю, хотя бы и родному отцу. Привык, живя в другом веке, мудрить и свои прихоти ставить выше всего.
— Оставь, — перебила пани Антонида. — Я, наверно, ошиблась. Он действительно старого века человек. Столько видел, что ему надоели люди, хочется покоя.
И тут неожиданно вмешался Алесь:
— А у меня никто не спрашивает…
— А что тут спрашивать? — отозвался отец.
— А то, что я не поеду, — заупрямился сын. — Я не кукла. Тяжело ему видеть людей — нехай не видит. Я тоже человек, а не котенок какой-то.
Пани Антонида испугалась.
— Ты это ради меня сделаешь, сынок, — мягко попросила она. — Ты не обращай внимания.
— Не поеду.
— Может, ты и понравишься ему.
— Не хочу никому нравиться. Что я, девка? — совсем по-деревенски сказал Алесь.
Вмешался пан Юрий:
— Он твой дед, у вас одна кровь. Самое дорогое, что есть у тебя. Никто еще не говорил, что Загорские не уважают предков.
— Я тоже Загорский.
Отец притворно вздохнул.
— Нет, брат, ты не Загорский. Загорские не боялись самых трудных людей. Они — вот хотя б твой дед — с императорами не ладили, короля не уважали, пока он был того достоин.
Еще раз вздохнул:
— Ты не из тех… А я думал… Есть у Загорских обычай один… да ты до него не дорос.
— Какой?
— Когда видят, что хлопец стал совсем взрослым, он идет странствовать. Совсем один. Сам едет, сам ночует, где хочет. По корчмам или просто у костра. И этим доказывает, что он взрослый. Вот я и думал, что таким странствием тебе будет поездка к деду. Поедешь один, вооруженный. Урга конь деликатный, ему уход нужен, так ты взял бы Косюньку… И поехал. А я, зная деда, который может любого задержать столько, сколько захочет…
— Как это?
— Он знает, что дворянину пешком ходить позор. Вот и замкнет коня. И человек сидит… Так я, зная это, к Длинной Круче, которая недалеко от усадьбы, потом дослал бы Логвина и приказал бы ему два дня ждать. Если б ты не захотел оставаться, прошел бы какую версту да и вернулся б домой. Тем более что такого ожидать не приходится: дед приглашает на один день.