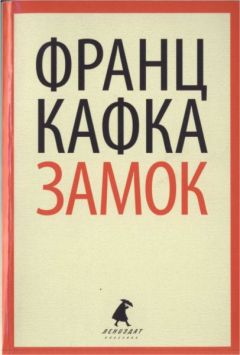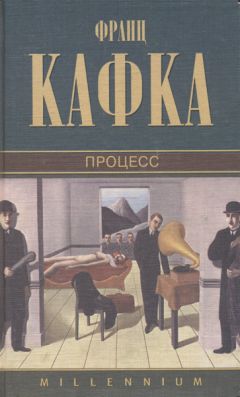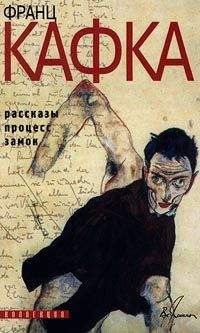глаза.
Через несколько дней на главной аллее пражского кладбища он протянет ей руку помощи, чтобы не дать рухнуть под весом одолевшей ее боли, в точности как в этот же час протянул ее вчера, схватив за запястье, когда она уже переступила через перила, и не дав воссоединиться с возлюбленным. Ему еще нет двадцати пяти. А он думает, что уже пережил в жизни все самые сильные эмоции. Но на очередном повороте, когда перед его глазами разворачивается феерия утопающей в зелени долины, купающейся в потоках света, его охватывает ощущение, что любую драму можно пережить, а любовь рано или поздно проходит.
Оттла
Ссутулившись и понурив голову, она приближается к кладбищу в Страшнице, где вскоре похоронят ее брата. У решетчатых ворот собралась небольшая толпа. Она еще издали узнает знакомые лица, в самом центре Макс, рядом Дора под руку с Робертом, далее Феликс Велч, Рудольф Фукс, Гуго Берман и Иоганнес Урцидиль. Их окружают другие мужчины и женщины, все в темных одеждах и с зонтами в руках в ожидании бури, которой вот-вот грозит разразиться небо.
Едва завидев Оттлу, Макс тут же идет к ней. Его примеру следуют Феликс и Рудольф, в шаге за ними Иоганнес. Ее окружают, обнимают, говорят слова утешения, причем каждый свои. Долго и крепко прижимают к себе, вкладывая в этот жест всю теплоту, и выражают соболезнования. Вспоминают радостные моменты прошлого. От этих выражений вежливости и любви ее охватывает дрожь. Она хотела бы тишины, чтобы ни одна живая душа не мешала ей пройти в погребальный зал. Но каждый раз картина повторяется, будто совершая бег по кругу: по мере того, как с губ собеседника срываются слова, его боль будто рассеивается, лицо озаряется, он словно забывает, что говорит с сестрой усопшего. Как же ей хотелось бы сейчас прекратить этот неиссякаемый поток излияний и закричать: «Хватит! Я больше не могу вас слышать! У меня нет времени, я должна побыть с братом, пока его не унесли, сказать последнее ”прощай” тому, кто был для меня всем, у меня назначено великое свидание с вечностью». Но стоит ей отделаться от одного, как на ее пути тут же встает другой. Оттле сочувствуют и пожимают руку. Подают милостыню в виде каких-то бесплотных историй и вываливают на нее воспоминания, до которых ей нет никакого дела. Она переходит от одного к другому, будто двигаясь меж теней, каждый раз являя им подобающую случаю маску и бунтуя внутри против пылкого сострадания всех этих людей. С трудом терпит слова толпы, которая говорит в один голос и что-то шепчет ей на ушко – каждый считает, что знает какую-то истину и не сомневается, что ему в какой-то степени принадлежал ее брат. Притом что Франц Кафка не принадлежит никому, разве что ей. «Замолчите!» – мысленно кричит она, только вот никто не желает узреть ее мрачный взор или услышать долгое, тягостное молчание. По очереди выпускают стрелы своих фраз:
«К жизни он предъявлял требования скорее завышенные, нежели заниженные. Жаждал совершенства, как в любви, так и во всем, либо идеал, либо ничего… Одной зимней ночью в Виноградах стояла настоящая стужа, а Франц был лишь в легком пальтишке. Когда Верфель набросился на него с упреками, он объяснил, что даже в холодное время года принимает ледяные ванны… Я жил в одном очень шумном доме на углу Штефансгассе и Георгенштрассе и очень страдал, никогда не зная там тишины. Никто не мог понять меня лучше, чем Франц. Сам он спасался от шума, засовывая в уши вату. Последовав его совету, я и сегодня не могу уснуть без… Он был скуп на слова, говорил кратко и порой резко. Иногда довольствовался красноречивым молчанием… Когда в издательстве Вольфа вышла его первая книжка, он сказал мне: «В магазине Андре было продано одиннадцать экземпляров. Десять из них приобрел я сам. И очень хотел бы знать, кому достался одиннадцатый…» Я его недавно видел, он так похудел и с трудом дышал. У него охрип голос… Не родись он евреем, ему никогда бы не стать Кафкой… Он был одиночка и человек ученый… «Превращение» является самым сильным произведением современной немецкой литературы… Как-то раз, когда я сказала ему, что Диккенс скучен, он прочел мне несколько страниц о первой помолвке Дэвида Копперфилда, преисполненных подлинного веселья. Читал он просто бесподобно… Одно время Франц ударился в атеизм, желая, чтобы я тоже отказался от иудейской веры. Диалектик из него был хоть куда. Дело было в аккурат накануне Пасхи и всенощного бдения, которые я из-за родителей никогда особо не любил. Мне очень хотелось устоять перед всеми его аргументами. Я все же сумел настоять на своем. Много позже он решил вернуться к вере, от которой уговаривал отказаться меня… По натуре он был человек экзальтированный, обладал буйным воображением, но умел держать свои пылкие порывы в узде и преодолевать приступы сентиментальности… Однажды, когда мы отправились к Берте Фанте на сеанс спиритизма, он сказал мне: «Если стол движется, когда его внизу толкают те, кто за ним сидит, никакого чуда в этом нет…» Вы видели в газете изумительный некролог Милены Есенской? В статье говорится, что вот уже несколько лет ждет своего издателя роман «Процесс», вы сами эту книгу читали?.. Он повсюду старался выявлять скрытую простоту вещей… Ни один писатель, с которыми мне приходилось общаться, не производил такого впечатления человека, которому совершенно безразлична материальная сторона его творений… в 1917–1918 годах я жил в Вене. Франц попросил меня подыскать ему комнату в тихой гостинице. После разговора с ним у меня возникло предчувствие, что судьба его брака будет решаться в Будапеште. В Вене он сообщил мне о разрыве с невестой. Был предельно спокоен. Мне даже показалось, что после этого ему стало легче на душе. Пошел со мной в кафе «Центр». Время было позднее, и народу там собралось немного. Ему все пришлось по вкусу… Людей он знал как дано только ясновидящим и пророкам… В последний год я видела Франца на седьмом небе от счастья. Его физическое состояние ухудшалось, что правда, то правда, но еще не настолько, чтобы внушать серьезные опасения. В Берлине с его спутницей они жили поистине идиллической жизнью. Из сына он в известной степени превратился в отца семейства».
Когда она все же сумела вырваться из круговорота этой коллективной дани уважения, изливавшейся на нее бурным потоком, от вежливых улыбок одними губами у нее свело судорогой челюсть, а в голову набились пустые, бессмысленные