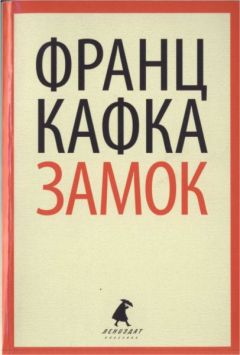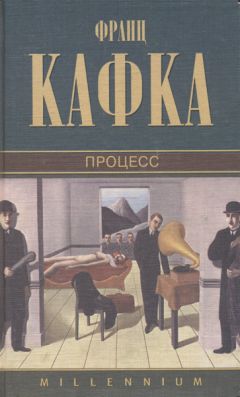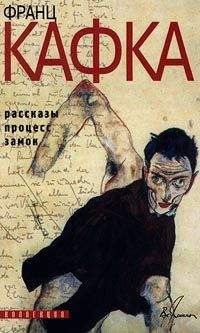не покинул этот бренный мир, и с тех пор больше не встречались. Макс поспешно отправился в санаторий в Кирлинге, ответив на мольбы Доры: «Если хочешь увидеть Франца в последний раз, не тяни». А сейчас они столкнулись у кладбищенских ворот и обсуждают будущее.
– Буду дальше жить своей жизнью, – наконец ответил Роберт.
– Будто ничего не случилось? – спросил Брод.
Ну конечно же нет. Случилось нечто из ряда вон выходящее, событие, которым отныне будет отмечена вся его жизнь. Он был растерян. Его и до этого нельзя было назвать решительным молодым человеком, который точно знает, куда идет, и изучает медицину, с планом сделать университетскую карьеру либо же стать достойным продолжателем потомственной врачебной практики. Он всегда плыл по воле событий. Но после встречи с Францем в Матлярских горах понял, что обрел под ногами опору и определил для себя свой горизонт.
– …который затмевает собой все остальные горизонты? – предположил Брод.
Но и открывает множество других. Близкое общение с таким столпом мысли пошатнуло все его верования. Да и как иначе могло подействовать столкновение с такой глыбой гуманизма и ума? Память об этом человеке и отголоски его творческого наследия, вполне естественно, будут влиять на каждую его мысль. Единственное, теперь у него была надежда в них разобраться. Когда тебе еще нет и двадцати пяти, время для этого, пожалуй, еще есть…
– Двадцать пять лет! – воскликнул Брод, благосклонно пожав плечами. – Чтобы во всем разобраться, у вас впереди вся жизнь! И вы наверняка правы. Быть рядом с Кафкой, даже в таких обстоятельствах, – привилегия, которая будет озарять вас своим светом до скончания дней.
Как только речь заходила о Франце, Брод превращался в читающего проповедь священника.
– Может быть… Я, по крайней мере, на это очень надеюсь.
В действительности же Роберт ни во что такое не верил и в глубине души полагал, что жизнь теперь потускнеет и лишится страсти, сведясь к банальной серости. Вскоре ему придется вернуться к учебе, вновь зажить рутинной жизнью студента медицинского факультета и подчиниться установленному порядку, довольствуясь посещением больниц в маскарадных белых халатах, серенадами профессоров, нескончаемыми ночами дежурств, книгами по анатомии и обществом пораженных той или иной болезнью тел – либо еще живых, либо уже лишенных плоти на столе для вскрытия трупов.
– А вы знаете, – с улыбкой вклинился в поток его размышлений Макс, – как Франц описал вас в письме, когда впервые рассказал о своем новом друге?
Роберт почувствовал, что его щеки залились румянцем.
– Поскольку эти строки произвели на меня неизгладимое впечатление, я процитирую их по памяти: «Молодой еврей из Будапешта, весьма амбициозный, умный, прирожденный врач, сторонник антисионизма, своими учителями считает Иисуса Христа и Достоевского».
Они расхохотались.
– А вы теперь что намерены делать? – спросил Роберт, утомившись играть роль мишени для допросов.
Брод ответил, что торопиться тоже не будет. Сначала придет в себя после этого тяжкого испытания – смерти лучшего друга на протяжении двадцати лет, само присутствие которого вдохновляло и поддерживало его в писательских начинаниях, вдохновляло и поддерживало в нем саму жизнь. Учитель, наставник и пример для подражания, в его представлении, неотделимый от его творений, служил вместилищем целого мира, с одной стороны, замкнутого на себе, с другой – открытого для бесконечности. Да, в тот прискорбный день во вселенной погасло подлинное небесное светило.
– А вы, стало быть, считаете своим долгом сделать так, чтобы от этой умершей звезды и дальше исходил свет? – не без иронии бросил Роберт.
– Да, – ответил Брод, сознательно не замечая скрытую в вопросе насмешку.
Его не покидала надежда продолжить дело, начатое много лет назад, когда с его помощью в издательстве его друга Эрнста Ровольта вышел первый сборник новелл Кафки.
– Вы с Дорой видели Франца таким, каким его уже никогда никто не будет знать, – продолжал он, – при вас он приобрел черты человека, сумевшего порвать со своим прошлым, больше не желающего со всем этим покончить и наконец страстно воспылавшего жаждой жизни. Человека, в конечном итоге примирившегося с самим собой.
Они надолго умолкли. Тишину нарушил Брод, спросив его, долго ли он намерен оставаться в Праге. А когда узнал, что Роберт взял на послезавтра билет на поезд в Будапешт, предложил на следующий день ближе к вечеру встретиться в кафе «Савой». Утром ему надо было отправиться в страховую компанию, чтобы по просьбе Германа Кафки забрать из кабинета его сына последние оставшиеся после него вещи. На том они и расстались.
Когда день уже клонится к закату, Роберт сидит в кафе и ждет Брода, которому пора бы давно появиться. Перед ним стоит кружка пива. Напрашиваться пойти вместе в страховую контору он не посмел, хотя был бы не прочь ощутить там частичку, оставшуюся от Франца. На работе он у него уже бывал, когда за несколько месяцев до этого приехал в Прагу и по просьбе Кафки отвез его начальству письмо с медицинским заключением, свидетельствовавшим о его неспособности вернуться к работе из-за обострения болезни. Тогда он на какое-то время задержался перед величественным домом 7 по улице Поржич, где друг трудился пятнадцать лет, очарованный его высоким фасадом и огромным куполом. У него и сейчас стоит перед глазами, как он нажимает кнопку звонка справа от монументальной входной двери. Открывший ему швейцар в рединготе и цилиндре спросил, по какой надобности он явился. Мимо него в здание с озабоченным видом устремлялись служащие в серых костюмах и с портфелями в руках.
– Я принес вашему начальству письмо от доктора Кафки, – ответил он.
– Соблаговолите следовать за мной.
Его все так же обгоняли служащие, машинально приподнимая на ходу шляпу, а затем взлетали по широкой лестнице наверх, на третий этаж, где попадали в огромный зал и с задумчивым видом пробегали его из конца в конец, сжимая в руках папки. «Улей», – подумалось тогда ему. По обе его стороны вдоль стен тянулись столы, за которыми суетились молоденькие машинистки. Ему вдруг вспомнилась фройляйн Кайзер, которую Франц называл секретаршей. Роберту тогда еще показалось, что в голосе друга содержался намек, что с фройляйн Кайзер его связывали не просто рабочие отношения, но нечто большее. За столами вереницей располагались двери с именами на табличках, чаще всего с титулом «доктор». Провожатый останавливался у каждого стола и клал кипу бумажных листов, которую тут же хватал другой служащий, бросал взгляд на первую страницу и громоздил сверху на другую стопку. Время от времени отворялась дверь, пропуская в ту либо другую сторону человека.
В целом картина напоминала какой-то комичный балет под шепот голосов и