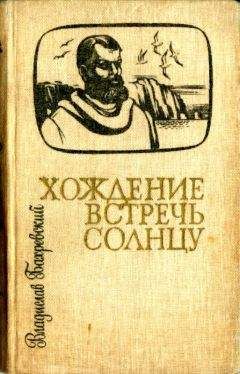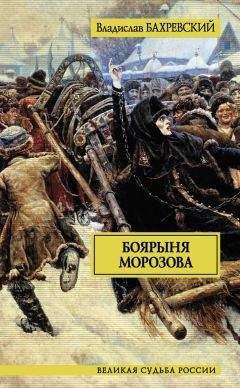В Великом Устюге Заблоцкий поселился на Вздыхательной улице. Воевода обошелся с ним почтительно: хоть и опальный, да ведь родственник боярину Василию, а боярин Василий в Думе сидит и царю не противен.
Водил воевода Заблоцкого по крепости. На воротах Спасской башни, что гляделась на реку Сухону, икона Спаса Нерукотворного потемнела и покосилась. Одна башня цела, другая сгнила. Две пищали немецкие, полуторные, без ядер; сто двадцать восемь затинных[7] русских, наполовину для стрельбы не пригодны, а какие пригодны — к тем ядер или нет, или есть, так мало.
Весна пришла, лед сошел, тогда и послали служилый народ по деревням с грамотами набирать охочих людей до Сибири.
Ждали тепла, большого базара, на базаре охочий человек в два раза сговорчивей.
А Заблоцкий по весне совсем хмурым стал.
Воевода позвал пятидесятника Афоньку Чеснокова.
— Скучает Заблоцкий-то. Целый год в тюрьме сидел. Соображай, Афонька!
Чесноков хмыкнул.
— Сделаем, и очень даже.
Крикнул стрельцу из своих. Пошептал ему на всю улицу в сообразительное ухо и на весь город досказал:
— Да чтобы стол был как стол, чтоб ножки подламывались!
Утром барабанили в дверь и окно. Борис встал. Спокойно, ожидая всего, оделся, сунул за пояс не туго оба пистолета, вышел на крыльцо.
Под окном стоял молодой мужик. Рубаха, разодранная до пупа, порхала, как бабочка, и мужик тянул ее за крылья книзу, и от этого старания крылья приобретали широту и большую свободу.
— Ты что барабанишь?
Мужик распустил крылья, поглядел на Бориса и передразнил:
— А ты что барабанишь?
— Ну-ну!
— Вот тебе и «ну-ну»! — опять передразнил мужик. — Видишь, рубаха лопнула у человека.
— А зачем стучишь?
— Я тебе говорю: видишь — рубаха лопнула. Балда! Починить нужно.
— Хам! — Борис выхватил пистолет.
Мужик завязал рубаху на животе узлом и уж потом только показал на воробьишку, одиноко сидящего на маковке крытых ворот.
— А в него попадешь?
Борис прищурил глаза, прикидывая расстояние.
— Не попаду.
— А я попаду.
— Врешь, собака!
— Спорим! Попаду — твоя опохмелка, а не попаду, — мужик развел руками. — Значит, не попаду. Нету у меня денег.
— Не попадешь, я вот из этого, — Борис погладил рукоятку второго пистолета,—расквашу твою башку, как пустой огурец.
— Согласен, болеть хоть не будет.
А воробей, глупый, все не улетал.
Мужик поднялся на крыльцо, повертел пистолет в руках, посмотрел на Бориса, усмехнулся и пальнул. От воробья только пух.
Взвизгнула, в одной рубахе вылетела в сенцы хозяйка дома.
— Похмелье ставь, — сказал ей Борис. — А ты держи второй. Ну-ка вон по коньку на крыше.
— Жалко, — сказал мужик, — я лучше второго воробья подожду. Вон видишь на сарае.
Грохнуло — и второго воробья как не бывало.
— Годишься, — сказал Борис.
— Куда?
— Ко мне в отряд, в казаки.
— Я гожусь, — сказал мужик. — Да и ты ничего. Не дрейфишь. Пистолеты не побоялся дать.
— Язык у тебя, мужик!
— А чего? — высунул язык и все косил глазами, пытаясь увидеть.
Борис захохотал.
— Пошли выпьем, хитрюга. Как зовут?
— Семейка!
— Семен, значит!
— Семен Дежнев.
— Ну, пошли, Семен Дежнев.
Со свету в избе было темно. Один стол жил. Пылала боками круглыми братина, чары перебрасывались огнями, мерцала чешуей длинная, позабытая на вчерашнем пиру рыбина.
Сели.
Хозяйка подала похмелье: ломтики баранины в огуречном рассоле, с мелкокрошеными солеными огурцами, с уксусом, с перцем. Семен жадно перехватил из рук тарель, по-басурмански, через край прильнул к огненной мешанине. Передохнул, допил жидкое и, отирая рот и вспотевшее лицо, извинился улыбкой.
Выпили.
— Согласен в Сибирь-то или так, болтал? — спросил Борис.
— А что ж я, хуже других? Наших за Камнем-то[8] знаешь сколько?
— Знаю. Не знаю только, с чего несет вас туда?
— От беспокойства. Тесно. Шагнул — Белое море, в другую сторону шагнул — Москва. А за Камнем хоть туда ходи, хоть сюда, а конца земли нет.
— На что он тебе сдался, земельный конец? — встряла в разговор хозяйка дома. — Тебе и здесь небось хорошо. Выпил — что небо, что земля — едино.
— А как же он мне не нужен, конец земли?
— Так и не нужен.
— Нужен.
— Зачем, глупая башка?
— Молчи, баба! Сказал нужен — значит, нужен. Не твоего ума дело! Нужен! А зачем — я, может, и сам не знаю, а знаю, что нужен. Да и-их! Стоять на самой маковке. Вся земля пройдена! И что там дальше — видно.
— Сеня, Сеня! Из тебя золотой бы мужик вышел. И работать умеешь, не балбес какой, добрый, пригожий, а все тебя за кудыкины горы тянет.
Заблоцкий встал.
— Вот тебе, Семен, на вино, в полдень приходи на Большую торговую площадь. Край земли хочешь посмотреть, со мной пойдешь — посмотришь. Помни, верного человека не забывают. Я тебя не забуду. Прощай пока.
Семен взял деньги.
— Рубаху пойду покупать.
Базарный день был светел и весел, как золотые головы сорока церквей Великого Устюга.
На трех торговых площадях суетилась Русь.
Белозерский купчина Емельян Евсеев привез ложки. Шесть тысяч корельчатых, десять тысяч плах да 300 кленовых.
В сладком ряду торговали пряниками. Тут тебе и архангельская козуля и холмогорская о четырех ногах, пряники путивльские, тверские. Торговали солеными сливами, вишнями в меду. Деревенщина привезла шестьдесят возов луку да чесноку столько же. Продавали на подъемы и тысячи.
С рыбой — беда, завалили прилавки, растогачили[9] возы. Разорялись в крике мужики, промышлявшие ершом.
— Ерши, ерши!
Рыба мяконькая,
Костеватенькая.
Кто ерша купит,
Того молодка поцелует,
Молодец обнимет!
Трепыхались золотые живучие караси, окуни мерцали в зеленых, набитых травой корзинах. Язь, щука, судак, сельдь да еще сельдь царская с Печоры, Двины, в махоньких бочонках, засоленная так, что во рту от нее и прохладно, и солоно, и сладко. Длинная стерлядь, осетры, белуга. Суздалец Гришка Тимофеев явил три подводы икры, 30 белуг, 200 осетров свежих, 74 белуги свежие, да еще дорогую, любимую рыбку с душком, а стоил его товар 200 рублей.
Говяжье сало продавали бочками и возами, свиное и медвежье — караваями; масло коровье гляделось лунами из красных глиняных горшков, купцы продавали его и покупали возами, а конопляное, ореховое и льняное — бочками.
Медовый дух перешибал многие ароматы и запахи. Мед стоял в кадках, туесах, береснях, горшках, кринках. Им торговали монахи, седые лунявые старики и молодцы душа нараспашку. Манило в скромные затененные углы, где в кулях дремал покуда анис и хмель.
Семен потолкался там и тут, поглазел на ученого медведя, возившего по кругу воз, на котором в загончике стояли овцы с круглыми от страха глазами, пошел в ряды, где торговали одеждой и всякой всячиной.
Продавцы сапог посматривали на него с недоверием, но помять в руках товар давали. Рубаху он купил сразу, свою скинул, надел новую, старую бросил нищим.
В этих рядах пахло чистыми холстами и сладко кожами. Кожами торговали городов сорок. Были кожи конские, овчины, козлиные, яловичьи, свиные, кошачьи, мерлушка…
Горы мехов подманивали пуховитостью и теплым блеском. Белка, заяц, лиса, куница, хорь, горностай, выдра, норка, рысь — живи не хочу!
Семен любил меха, особенно куницу: хорошая темная куница не уступала неброским сановитым богатством даже соболю.
Семен все еще глазел на товары, когда посреди площади на заготовленном с вечера помосте появился зычный дьяк и, крикнув тишины, стал читать царский указ о наборе охочих вольных людей в Сибирь.
Люди Заблоцкого подкатили к помосту две бочки с белым вином, поставили на помост красный стул. Заблоцкий, окруженный стрельцами, сел на стул и, весело посматривая в толпу, стал ждать.
Вышел паря. Толпа ему была по плечо. Ножищи поставил робко, одна к одной, плечом заслоняется, как девица крылом, улыбка что блин на масленице.
— Меня возьми!
По тому, как шевельнулась толпа, как стало ей весело, как трудно погасила она веселье свое, выжидая и постреливая глазами, Заблоцкий понял: парень из дураков.
— В Сибирь хочешь?
— А что?
— Коль так, иди выпей вина за здоровье государя нашего.
— Да ну ее! Горькая! Я за царя-батюшку помолюсь лучше.
— Тогда за то, что ты не оробел, за то, что первым надумал исполнить государеву волю, получай алтын.
Дьяк нагнулся над ухом Заблоцкого и зашептал что-то. Заблоцкий слушал, не отпускал с лица улыбки. Дал парню алтын, спросил: