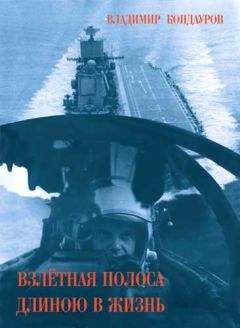Стрелок, словно на гигантских качелях, закачался из стороны в сторону, с превеликим трудом успел погасить размашистую амплитуду и приземлился на краю аэродрома. Мы ринулись к нему. Две машины — пожарная и скорой помощи — догнали нас и оставили позади. А вот и командирский «виллис» мчится к месту приземления. Целая толпа пожарников и медработников окружила парашютиста: не понять — все ли в порядке? При виде командира полка все расступились. Мирошин стоит бледный, белее стены, а медсестра заставляет его выпить налитый в кружку спирт.
— Пей! — властно приказывает «батя», видя, что в лице парашютиста нет ни кровинки.
Мирошин вздрагивает от знакомого властного голоса и пьет, глупо улыбаясь. Пьет большими глотками.
Случай с Мирошиным вызвал разноречия среди командного состава. «Батя», например, снисходительно посмеивался, а замполит, подполковник Бабаев, говорил о хладнокровии и завидной выдержке стрелка. В целом же в полку несколько дней царила атмосфера настороженности. Было такое ощущение, что вот-вот заговорят о Мирошине где-нибудь в «верхах», и тогда наш штурмовой, гвардейский получит соответствующую оценку. Обстановка разрядилась самым неожиданным образом. Однажды утром, войдя в свой кабинет, полковник Ребров только было взялся за бумаги, как на пороге появился замполит.
— Здравия желаю, Олег Евсеевич. Читали о нашем Мирошине? Вот, полюбуйтесь. Целый очерк.
«Батя» даже не посмотрел, кто автор корреспонденции, пока не прочитал ее от первой до последней строчки. И лишь увидев внизу мою фамилию, потускнел:
— Черт те что,— выругался он удрученно.— Кто уполномочил этого Природина писать в газету?
— Олег Евсеевич, это вы зря,— упрекнул командира Бабаев.— Написано складно. Фальши никакой нет. К тому же, как я заметил, к очерку приложил руку кто-то еще. Тут и цифры точные, и оперативные выкладки. Думаю, прежде чем напечатать очерк, редакция консультировалась... Может быть, даже в дивизии.
— Уму непостижимо, Маха Магомедович, ну какой же это героизм! Стрелок вынужден был спасать себя, вот и спасся! Любой бы на его месте поступил точно так же!
— Вы, Олег Евсеевич, заговорили о вынужденности,— тихонько начал Бабаев.—Но разве не вынужденная обстановка — первое условие для рождения подвига? Давайте не будем уходить далеко, а вспомним, как стали героем вы. Вылетая на боевое задание под Керчью, вы даже и не подозревали, что встретитесь с тремя «мессершмиттами». Вы вынуждены были вступить в неравный бой.
— Ну вот еще, нашел пример,— обиделся «батя».
— Ладно, замнем для ясности,— сказал замполит.— Если хотите, я приведу с десяток примеров, когда люди становились героями благодаря тому, что их вынуждала обстановка!
Спор, наверное, продолжался бы долго, но в это время раздался телефонный звонок. «Батя» поднял трубку и услышал голос командира дивизии: «Поздравляю, Олег Евсеевич! Ишь как твоего питомца отметили! Молодец! Объяви Мирошину от моего имени благодарность. И всему личному составу полка».
— Слушаюсь, товарищ генерал,— растерянно ответил Ребров, положив трубку, покачал головой и виновато улыбнулся.
В тот же день на полковом построении «батя» в точности исполнил приказание командира дивизии. Личный состав, приняв поздравление, хором ответил: «Служим Советскому Союзу!». А Мирошина вызвали на середину каре и объявили благодарность.
О моей корреспонденции не было сказано ни слова, но все равно я праздновал победу.
— Вы — комсомолец, товарищ Природин? — спрашивает замполит, пригласив к себе в кабинет.
— Так точно, товарищ подполковник!
— Очень хорошо. А давно пишете?
— Так точно, давно. Со школьной скамьи.
— Что, если мы, то есть командование полка, доверит вам одно серьезное задание? Возьметесь? Сейчас я вам покажу...— Бабаев распахнул дверцы массивного шкафа и из бумаг и папок достал огромный альбом в бархатном переплете.— Тут вся история нашего полка,— сказал он, поднимая с пола выпавшие фотокарточки.— Вот если б вы взялись написать историю полка!
— Не знаю,— вырвалось у меня беспомощно.— Сумею ли?
— Вот и я тоже так подумал,— признался с некоторым огорчением Бабаев.— Парень вы вроде способный, но слишком молодой для такого дела.
— Почему же молодой? — обиделся я. — Пушкин в двадцать лет уже поэму «Руслан и Людмила» написал.
— Ну так то — Пушкин,— скептически усмехнулся замполит и опять спросил: — Может, попробуете?
— Попробую...
— На аэродром будете ходить только в дни полетов, остальное время в вашем распоряжении.
— Товарищ подполковник,— осмелел я,— разрешили бы мне по средам посещать заседания литературного объединения при городской газете.
— Ну, что ж, это, пожалуй, можно,— подумав, согласился замполит.
В среду я отправился в Хурангиз. Пригородный поезд с полчаса волочился по долине, минуя речушки и пожелтевшие сады, и остановился перед зданием вокзала. На привокзальной площади людно. Толпы у автобусных остановок, возле базарчика, возле магазинов, парикмахерских и около чайханы, которая вольготно раскинулась около широкого арыка. С одной стороны дощатые настилы и кошмы, с другой — жаровни с пряным шашлыком. Из чайханы несется одуряюще звонкий голос певца и бренчание струн. Пируют, разумеется, бывшие фронтовики. Среди полосатых таджикских халатов видны гимнастерки. Около них образуются компании. Люди с интересом слушают их, поют для них лучшие песни. И вообще, если присмотреться, то бывшие военные — всюду.
Вскоре я добрался до двухэтажного дома, в котором размещается редакция хурангизской газеты. В коридорах тишина, лишь где-то постукивают пишущие машинки. В секретариате мужчина в кителе без погон спрашивает:
— У вас стихи?
— Я приехал на собрание литобъединения. Наш замполит звонил редактору.
— Слышал о таком разговоре. Но занятия в семь, рановато приехали.
Действительно, до семи еще целых три часа. Дерзкая мысль, которая не покидала меня всю дорогу, пока ехал сюда, вновь обжигает сердце. «Надо найти Тоню Глинкину: это ведь не очень сложно!» Спросив у прохожих, где находится пединститут, шагаю мимо больших фонтанов у гостиницы, минуя кинотеатр, выхожу на базарную площадь. Снова толпы у прилавков и суета невероятная. Обогнув шумную толчею, спешу к подъезду института.
У входа группа студенток с учебниками. Судя по всему, занятия только кончились. Спросив у девушек, где общежитие факультета истории, спешу туда. Одна из студенток вызвалась меня проводить.
— А вы к кому?
— К Глинкиной.
— Знаю, знаю такую. А вы кто ей... Брат или?..
— Не брат и пока что даже не «или». Просто знакомый.
Мы взбежали на второй этаж. Девушка отыскала нужную комнату, отворила дверь и церемонно доложила:
— Глинкина, принимай гостя.
В комнате четверо девушек. Все удивленно переглянулись.
— Вам кого? — спрашивает Тоня, отходя от зеркала, перед которым она только что прихорашивалась.
— Вас,— неуверенно выговариваю я.
— Меня? — удивляется девушка и хлопает глазами. Остальные смеются.
— Ну, святоша! Только говоришь, что у тебя никого нет, а посмотри, какой красавец пожаловал!
— Вы серьезно... ко мне? — строже спрашивает Тоня.
— Ну, тогда, на озере... Помните? Я документы у вас проверял!
Девчонки расхохотались еще громче, а Тоня залилась румянцем.
— Да, кажется, припоминаю,— соглашается она и направляется к двери.— Давайте-ка выйдем, тут все равно не дадут поговорить.
Мы останавливаемся возле лестничных перил.
— Зачем вы пришли? Опять, что ли, документы проверять? — спросила Тоня.
— Нет, не за этим, — отвечаю стесненно. От волнения у меня все дрожит внутри.— Я в редакцию приехал. На заседание литобъединения. Я сочиняю стихи.
— Ну и о чем у вас стихи? — спрашивает Тоня.
— Обо всем... О небе... О любви... Пойдемте со мной?
— На литобъединение? — растерянно переспрашивает Тоня.— А это во сколько? Мне вечером в библиотеку. Она только до десяти работает.
— Успеете, я провожу вас. Пойдемте?
Пока мы разговариваем, дверь комнаты все время открывается и девчата поглядывают в нашу сторону и хихикают. Тоня нервничает. Отвлекаясь от нашей беседы, она бросает выразительные взгляды на подруг.
— Вы не обращайте на них внимания,— просит она, мило улыбаясь.— Я ведь им рассказала о том случае на озере. Хотите, познакомлю? Идемте в комнату! Девочки,— говорит она с нарочитой дерзостью, чтобы окончательно побороть смущение.— Это действительно он. Познакомьтесь.
— Вождь революции... Марат,— говорю я и подаю руку каждой в отдельности.
— Француз? — с недоумением спрашивает одна, в мелких кудряшках.
— Не совсем, — мигом отвечаю ей.— Я — гренландец.
Вот Тоня знает. Нас вместе с ней эвакуировали с гренландского ледяного материка.