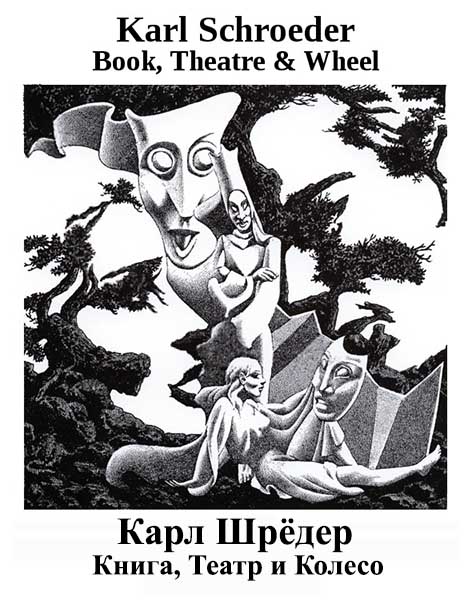отодвинулся от стола, аппетит у него совсем пропал.
Женевьева накрыла его руку своей.
— Извините, если я расстроила вас. Но ведь боль — это не все, что вы помните о своем браке?
Он неловко пожал плечами.
— Значит, вы не оплакивали должным образом, — сказала она. — Окажите мне еще одно одолжение, и я освобожу вас от своего обещания.
Он выжидающе взглянул на нее.
— Я не жестока, — сказала Женевьева, — но опишите мне ее. Как высока она была? Какого цвета были ее волосы? Ее глаза?
Вопреки собственному желанию Невиль ей объяснил, хотя редко говорил о Сесиль с кем-либо, кроме ее собственной семьи. Жак и остальные внимательно слушали; теперь, когда его подвигли рассказывать, их внимание его не задевало. В конце концов, жизнь каждого человека касалась всех остальных. Он просто считал свою боль неподдающейся целению, и потому никогда о ней не говорил.
Остаток вечера прошел как в тумане. Они с Жаком очень устали с дороги, и удалились в свою маленькую комнатку с облегчением.
Лежа в темноте и поглядывая, как парок от его дыхания появляется и исчезает в луче лунного света, Невиль впервые за многие годы почувствовал тоску по дому. Он знал, что леди хотела быть гостеприимной, но…
— Она такая странная, — сказал он вслух.
Жак на полу крякнул.
— Ты так думаешь только потому, что ты ей увлекся.
— Я увлекся?
— Да. Глупо с твоей стороны; она может быть опасна. А сейчас засыпай.
Невиль перекатился, чтобы всмотреться в черный бугорок, который был инквизитором.
— Это ты опасен, брат Жак.
— Только для богохульников, отступников, идолопоклонников, неверных и еретиков. И таких, похоже, большинство. А сейчас, однако, я бы добавил к этому списку, — он громко зевнул, — тех, кто домогается с разговорами к людям, которые пытаются уснуть.
— Ба. — Невиль лег на спину. Он еще долго лежал без сна и после того, как Жак захрапел.
* * * *
С утра Жак пошел с альмистром проверять счета поместья, оставив Невиля наедине с госпожой. Она устроила ему экскурсию по поместью. Их с Жаком поселили в главном здании, большом двухэтажном строении, покрытом белой штукатуркой, с двумя флигелями и кое-какими хозяйственными постройками. Ограждающие его стены прижались к одному из концов узкой высокой долины.
За холмами возвышались Альпы. В центре долины лежало небольшое озерко, окруженное полями ее крестьян. Рядом была кузница, и все ее каменщики или конюхи родились и выросли тут.
— Был период, — сказала она, — когда нас никто не посещал десятилетиями. Говорят, что эту виллу выстроил римский сенатор, и после падения Рима он укрылся здесь со своей семьей, более века не имея никаких связей с внешним миром.
— Могу в это поверить, — сказал Невиль. Из окна, у которого они стояли, он видел, что дороги кружили внутри долины; ни одна не вела наружу. Большую часть пути сюда они с Жаком шли узкими оленьими тропами. Если бы им не сказали, где искать это место, они бы сюда ни за что не забрели.
— В конце концов в холмах начали гнездиться бандиты. — Она показала рукой. — Поэтому нам пришлось позвать защитников извне. Иначе мы бы могли таиться до сих пор.
Он оборотился от окна.
— А вы бы это и предпочли?
Женевьева пожала плечами:
— У нас есть все, что нам нужно. Идемте со мной.
Она провела его через несколько комнат. Ее люди, мимо которых они проходили, отрывались от работы за верстаками и станками, и улыбались Невилю.
Они вошли в комнату, в которой было не менее дюжины книг, среди них — ни одной Библии. Он пробормотал что-то уважительное.
Женевьева засмеялась:
— Я думала, вы рыцарь неискушенный. Что значат для вас книги?
Он в затруднении пожал плечами.
— Библия — это книга. Я уважаю книги и стараюсь читать, когда есть возможность.
— Не желаете ли почитать эти?
— Сочту за честь. — Он открыл один толстый том и вгляделся в угловатые латинские письмена. — Эту я знаю. — Он улыбнулся, вспомнив свой вчерашний разговор с Жаком. — Это Туллий.
— Цицерон, вы хотите сказать.
— Кто?
— Цицерон. Это его римское имя. — Она жестом пригласила его присоединиться к ней за столом у единственного окна в комнате. — Вот. Я хотела подарить вам это.
То, что она держала, оказалось одиноким пергаментным листком того же размера, что и страницы, составлявшие захваченные Жаком памятные записки. На нем чья-то уверенная рука нарисовала фигуру совсем юной женщины. У нее были волосы, глаза и платье, которые Невиль описывал Женевьеве прошлой ночью. В ее взгляде было сострадание, над головой висела светящаяся корона, и выше — голубь.
Ее левая рука протягивала оливковую ветвь.
Кроме изображений Богородицы, Невиль уже несколько лет не видел ни единого женского портрета. Он осторожно взял этот у Женевьевы, его глаза наполнились слезами, когда он посмотрел на него.
— Это она, — сказал он. — Спасибо.
— Из вашего рассказа, — сказала она, — стало ясно, что вы нуждаетесь в прощении своей жены.
Женевьева включила в картину ткацкий станок, собаку, книгу и гроздь винограда — все подробности ее жизни, которые леди не без труда выудила из него прошлым вечером. Теперь образ в его руках, казалось, горел; он уже много лет не рисовал себе Сесиль за ткацким станком.
Он вытер глаза:
— Я буду им дорожить.
— Только не показывайте его брату Жаку, — посоветовала она. — Чтобы он не конфисковал и этот тоже.
— Он похож на страницы, которые мы видели прошлым вечером, — сказал он. — Те тоже рисовали вы?
Она кивнула.
— Мы знаем, что страницы — это система памяти, — мягко сказал Невиль. — Не то чтобы вещь неслыханная; Жак ее сразу определил.
— О-о. — Женевьева на мгновение насупленно уставилась в стенку. — Столько знаний утеряно. Иногда мы забываем, как многое было сохранено. Я не знала, что Церковь сберегла Искусство памяти.
— Церкви ведомо все, — искренне высказался он.
— Конечно. — Но ее улыбка при этих