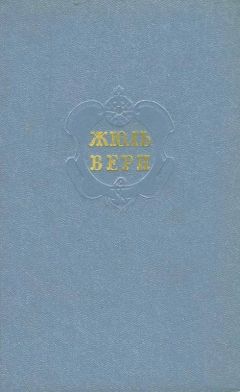в футбол. Но до чего же было хорошо! Ты так умела утешать, что когда я пошел на поправку, то еще несколько дней прикидывался больным.
И вот я стал представлять себе, как ты кладешь руку мне на лоб, твоя ладонь прохладная, как гренадин со льдом. Думать о том, как пахнет свежескошенная трава на футбольном поле или мокрая земля, когда играем под дождем. О теплом душе, пижаме и чашке горячего шоколада перед камином. О том, как папа заводит новоорлеанский джаз и ты немедленно начинаешь танцевать. Помню, как я смеялся, что ты так вдруг пускалась в пляс. И как звонко смеялась ты, когда я тоже принимался отплясывать в пижаме перед камином. Так звонко…
Телега замедляет ход. И резко останавливается.
– Главное, сиди тихо, – шепчет кузина.
Чей-то голос. Будто не говорит, а лает. Я затаил дыхание. Почувствовал себя посылкой с бомбой. Вот бы уметь, как тот длинный, эластичный, как жевательная резинка, парень, которого мы видели с тобой в цирке, – сжаться в комочек и забраться в крохотную коробку. У него это здорово получалось.
Телега раскалилась под солнцем. Сено колется, как шерстяной свитер на голое тело. Время застыло, не хватает воздуха. Зверски щекочет в носу, а чихнуть нельзя, хоть плачь. Ругаться про себя – совсем не то, что вслух.
Сжимаю зубы – хоть это мне можно.
Телега никак не поедет. Я совсем не дышу. Надуваю щеки. Крепко сжимаю веки. Перед закрытыми глазами, как фильм, прокручивается вся моя жизнь. Не очень длинная, но в ней так много всего!
Монпелье. Вилла “Иветта”. Синие ставни. Синий велосипед. Яйца вкрутую! Роза, увядшая без полива. Драка котов. Снег над морем. Огромное небо. Поле маковых бутонов. Лепестки расправлялись, как спальные мешки для фей. Сине-желтый деревянный кораблик, папин подарок, когда я лежал с аппендицитом. Твой растущий живот – он надувался, как мяч, сначала гандбольный, потом футбольный и под конец баскетбольный. Новенькая сестренка, которую ты, поглаживая живот, называла Мирей. Мой кораблик. “Нос! Киль! Борта!”
И все-таки я чихаю. Коротко. Громко. Сухие травинки шевелятся над головой. Чья-то рука ворошит сено. Пальцы касаются моего затылка. Мои волосы электризуются, как кошачья шерсть. Сенная буря! Я чихаю, чихаю и не могу остановиться. В шкатулке что-то стучит. Тик-так-клак-бум-тик-так-бум-блям! Правда бомба? Рука все шарит. Втягиваю живот, а рука шебуршит. Я уже вижу пальцы. Они нащупали мое плечо. Тихонько за него берутся. Похлопывают. Пальцы длинные, тонкие, как у тебя.
А лающий голос все ближе. Но даже и совсем вблизи я не понимаю ни слова на этом языке. От него дерет горло, и наверняка оно пересыхает, если долго на нем говорить. Кузина-тростинка что-то произносит в ответ, я снова ничего не понимаю, но в ее устах немецкий звучит приятно.
Меня опять разбирает чих. Пытаюсь думать, что чихать совсем не хочется, но это не помогает. Щеки раздуты, веки горят, слезы текут. Глотаю их, воображать, что это гренадин, не выходит. Чихать иль не чихать – таков вопрос. Вопрос жизни и смерти. Чем дольше сдерживаю чих, тем, знаю точно, хуже будет, когда он прорвется.
Десять секунд – и новый чихательный зуд. Ветер шевелит сено. У меня чешется все тело, я весь с ног и до головы – сплошной нос. Тик-так-бум-тик-так-бум! – стучит в шкатулке.
Еще пять секунд – и опять! “Ты заливаешься томатом!” – говорила ты мне, когда я краснел, потому что заранее знала, что я задумал что-нибудь отчебучить. А сейчас я заливаюсь томатом по чисто техническим причинам. Не могу больше дышать. Не могу больше терпеть.
Огонь! Пли! Апчхи! Будто чихнул не человек, а кот-астматик или даже лис. Толстозадые лошади, верно, подумали, что я пытаюсь говорить на их языке, во всяком случае, они мне ответили. Заржали, как ковбойские скакуны.
Снова копается в сене рука. И уже точно пробирается ко мне. На этот раз мне конец. Убьют и меня, и долговязую кузину.
Если есть Бог и всякие силы небесные, надеюсь, они подкинут мне адресок, как отыскать тебя в тех закоулках райских кущ, где положено покоиться душам мертвых. А что, если укусить эту руку? А потом выпрыгнуть из телеги и вскочить на толстозадую лошадь… Я думаю о каких-то небылицах, а думать некогда. Настоящее – вот оно, здесь и теперь.
Рука находит и легонько пожимает мне запястье.
– Они ушли, – говорит долговязая кузина и счищает сено с моего лица.
Я чуть было не бросился с ней обниматься, как будто она – это ты. Так хочется, чтобы это и правда была ты, что мне мерещится твой взгляд в ее глазах. Длиннющая кузина все держит меня за руку, а я все гляжу на нее. Она часто дышит, а вдохнуть и выдохнуть глубоко никак не может. Я не силен в утешениях, наверно, это у меня от папы. Не знаю, что надо делать, только смотрю на нее да жду, пока она надо мной разрыдается.
– Спасибо, – говорю я, и всё.
Она улыбается. А я повторяю опять и опять:
– Спасибо, спасибо, спасибо.
И эти мои “спасибо” действуют как волшебные заклинания.
Лошади снова принимаются лопотать по-лошадиному, ветер шевелит сено, и я чихаю на вольном воздухе оккупированной зоны.
– Будь здоров, Мену! Ты был молодцом!
Эх, мама, честно говоря, не таким уж я был молодцом, просто мне повезло: я чихнул ровно в тот момент, когда одна толстозадая лошадь что-то громко сказала напарнице.
– Мы еще не совсем приехали, так что я не могу тебя выпустить. Посиди еще смирно, пока я не скажу, что можно. Ладно?
– Да-да.
Голос у меня как у охрипшей птицы, в горле сушь, как в раскаленной пустыне.
Я чуточку разгребаю сено – только над лицом, чтобы было легче дышать. При каждом повороте оно насыпается снова, приходится его опять сгребать. Но временами я несколько минут подряд вижу небо. И играю в фигурные облака. Как делал когда-то, сидя на каменном молу. Крабы, песчаные замки да причудливые облака – других забот тогда не было.
Всю спину мне исколотило об дно телеги. Иногда она едет тише, и я слышу: “Ни звука, Мену!”, а потом снова тряска. Я насчитал сорок семь телеграфных столбов, одиннадцать раз чихнул, слышал лай трех собак, или, может, это лаяла одна и та же, и не знаю сколько раз пытался свистеть на все лады по-птичьему, за что на меня несколько раз шикали.
Вот телега снова замедлила ход, и долговязая Жанна заговорила тоном училки в начале учебного года, хотя какая