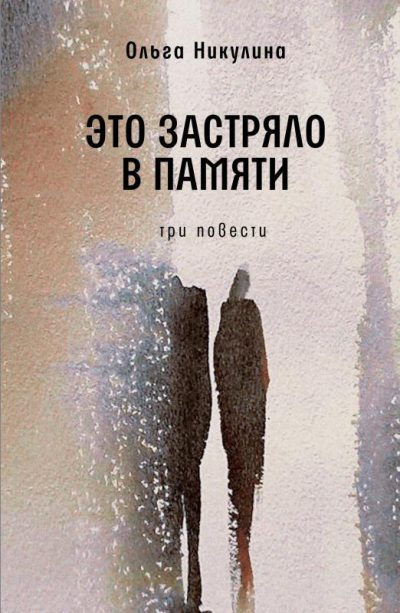тут – из партии вылечу. Церковка на отшибе, наши в этом районе не бывают. Небольшая, старенькая, народу никого. Записки на помин души подаю, за рабов Божиих Степаниду и Николая, подлеца, – уж так надо, одна старуха из дома сказала. Потому что стали они мне сниться, то она, то он. И правда, теперь реже. А чтобы никто с комбината или из знакомых меня не признал, косынку пониже натягиваю и очки тёмные надеваю. И чёрное старое пальто. На работу хожу в кожаном бирюзовом, австрийском. Шик! Последний писк моды!
Зинуля отпустила Лёлину руку, выбросила недокуренную сигарету, закурила новую. Продолжила уже другим, слезливым голосом, срывающимся от злости. Лицо её исказилось, стал кривиться рот, выявив нервный тик.
– Всё-таки она мне отомстила, моя любимая мамка, за мою ненависть к Кольке. Года не прожила, а поживи подольше, мы получили бы двухкомнатную квартиру. Она же инвалид первой группы была. Пришлось мне документы переделывать, писать заявление на однокомнатную. Зла не держу, вот езжу поминать, пишу записки, свечки покупаю самые дорогие. Рискую партийной репутацией.
Она несколько раз жадно затянулась, овладела собой и снова заговорила:
– Дом ваш бывший теперь не серый, а бежевый, грязный и совсем не смотрится. Недавно вёз меня мой ухажёр по Метростроевской из «Арагви», я прям дом ваш не узнала. И барака уже нет, я поглядела. Да и раньше двора и барака с улицы не было видно. Прятался за вашим домом. Похоже, его давно снесли, или сам разрушился. Руина, как в нём люди жили, издевательство. Зла не хватает. Ну всё, побежала я, – заторопилась она. – Надо на работу вернуться. Подвезут товар, должна проследить, что куда, кому чего из начальства, кому чего нужным людишкам. И себя не обидеть. Вы меня поняли, Лёля. Если что надо достать – обращайтесь, звоните, не стесняйтесь. Через пару дней болгарские дублёнки будут, женские. Сейчас мужские идут. Не надо? Ладно, как-нибудь вместе на кладбище побываем, там у меня красота. Бабка местная ухаживает за могилкой. Опять же, хорошо оплачиваю. Прокатимся на моём приятеле, обязательно! К Паньке, как в бараке и у вас в той семейке её называли! Куклы надутые! Прынцессы гороховые! Обе чеканутые. Бывшие ваши родственницы. Никогда не здоровались. И ваш муженёк нос задирал, урод долговязый. Только дед на человека был похож, кланялся, шляпу приподнимал. Баб любил, ох любил, засматривался… Да, а бабка та, за которой Панька ходила, как Панька слегла, так вскорости и померла… Вот вам и Панька! Никому старуха не была нужна! Одна Панька, старая домработница, её жалела… Хоть бы Паньку кто пожалел! Уроды! – Зинуля всхлипнула, горестно вздохнула. Не притворно. – Заболталася я с вами! Всё, пока! Убегаю!
Она сделала несколько шагов к выходу из закутка, но вдруг вернулась – опять что-то вспомнила:
– Та коробка с машинками, которую, вы знаете, так берегли Дорофеич с Колькой, теперь у меня. Предлагали большие деньги, как за редкую коллекцию. Отказалась продать. Думаю, отдам в детский сад. Он прям напротив моего дома. Правильно сделаю, как вы, Лёля, считаете?
Лёля кивнула и, пока Зинуля не повернула к метро, успела её спросить:
– Зина, а что стало с Дорофеичем, и с Матвеевной, и с Дусей?
– Дорофеич в тот день, когда пришла весть, что Колька погиб, запил. Три дня пил, а потом исчез. С костылями, с гармонью, с документами, с толстой книгой, которую всё время читал. Взял на работе расчёт, оставил моей мамке половину получки – и с концами. Через день Матвевна написала заявление в милицию. Думала, что он свалил к какой-то Марье Ивановне, к которой всё грозился уйти, когда они скандалили. Его быстро нашли, но не у Марьи Ивановны, а на станции Челюскинская, в посёлке, у Жанны, фельдшерицы местной, – во где! Она медсестрой на фронте была, его боевая подруга. Они ещё до войны сошлися, и после войны она его всё ждала. Вот какие истории, Лёля, бывают! Никакой Марьи Ивановны вовсе не было. Устроился он там в Челюскинской вахтёром. К Матвевне больше не вернулся. Развелись они, хотя она была против, скандалила в суде. Да её видно было, их развели. Поговаривали, что она запила, стала открыто водить мужиков и будто даже проворовалась, но выплатила. Не выгнали, пожалели, как брошенную бабу, но из буфета перевели. Тут как раз нас стали расселять, и я долго о ней ничего не слыхала. Встретила как-то наших, рассказали, что она сошлась с мужиком, он заставил её поменять однушку в Москве на хату в Подмосковье. К нему в хату приехала его семья, её выгнали, и Матвевна забомжевала. Последний раз видели её в электричке, ходила по вагонам, песни пела, а за ней молодой парень, хахалёк ейный, деньги с людей собирал, видно, тоже алкаш. Выглядела она жутко, худая, с фингалом под глазом. Наверно, уж и в живых её нет. И знаете? Никто её не пожалел. С Дусей мы перезваниваемся, она ездит к мамке на могилку, сажает цветочки… А от Кольки, негодяя, даже и могилки не осталося!.. Ой, я уже опаздываю, побежала! Ну давайте! Поцелуйчики! Приветики!
Она поправила косынку, надела очки, вытащила из кармана перчатки, помахала ими Лёле и побежала к подземному переходу. Там затерялась в толпе. Мелькнула её шёлковая косынка.
* * *
Лёля, ошарашенная этой встречей, не сразу сообразила, что номера телефона Зинули у неё нет и что всё это был выпендрёж, выброс застарелого болезненного комплекса, излияния детской обиды на жизнь в пролетарском бараке. И не только – душевная травма, нанесённая девочке глупой, вредной бабой, соседкой по бараку. Кто дёрнул эту дуру за язык протрепаться десятилетней девочке, что Панька её нагуляла и что Коленька от мужа-героя, погибшего на фронте, а она, Зинуля, от залётного фронтовика, добиравшегося из подмосковного госпиталя домой, за Урал, мужика, даже имени которого Панька не знала, не успела спросить… И что зачата она была чуть ли не в последнем ряду кинотеатра, в темноте, или неподалёку, в кустах. Был последний сеанс. Болтали, что Панька с подругой Дусей сидели в последнем ряду кинотеатра вместе, но он прилип к Паньке. Подруги поскандалили, и Дуся ушла без Паньки. Протрепалась девчонке, судя по всему, Матвевна, жена Дорофеича, инвалида войны на деревянной ноге, тоже из первых метростроевцев. Матвевна слыла сплетницей, спекулянткой, нечистой на руку. Бралась продавать краденое, вела знакомства с ворами из соседних трущоб. Как что в бараке пропадёт – кивали на Матвевну. Дорофеич её иногда поколачивал костылём и грозился уйти к Марье Ивановне, которую никто не знал. Но Матвевне многое прощалось. У неё был замечательный голос и хороший слух, она знала много песен и по праздникам на сборищах пела, если