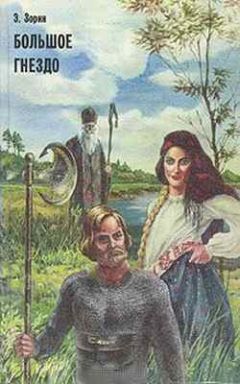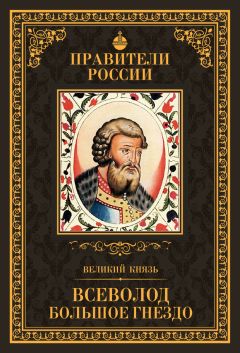— Стой! — крикнул Авраам, увидев блеснувший на пригорке огонек. Высунувшись из возка, замахал рукой.
— Тпр-ру-у! — остановил коней возница. Спрыгнул наземь, подковылял занемевшими ногами к возку.
— Видишь огонек? — сказал Авраам.
— Отчего ж не видеть? — отвечал возница, не оборачиваясь. — Места здешние мне ведомы…
— Ну так сворачивай, — нетерпеливо поторопил его Авраам.
Возница стоял нерешительно.
— Чего ж ты?..
— Не, туды я не сверну.
Авраам удивился:
— Почто?
— Не, — уперся возница, — и не проси, батюшка…
— Экой же ты чудной, — проворчал Авраам. — Аль на дороге нам ночевать?
— Хоть бы и на дороге, — отвечал возница. — Но только туды не сверну. Страшно.
— Чего ж страшно-то?
— Отродясь туды не сворачивал… Всего и слов-то: ведьмина россечь.
— Эко хватил куды, — сказал Авраам, почувствовав внезапную тревогу. Ему уж и самому расхотелось сворачивать. Но от рожденья был Авраам упрям и от сказанного не отступался. Однако замешкался, и молчанье его мужик расценил по-своему — неуклюже направился к лошадям.
— Погодь ты! — крикнул Авраам ему в спину.
— Ну чегой-то, батюшка? — неохотно вернулся возница.
— Будь то хоть ведьмина, хоть лешачья россечь, — сказал Авраам, — а зело продрог я, до косточек сиверком прохватило — невмоготу. Сворачивай!..
В иное время, может, и сбег бы от него мужик, да тут куда убежишь? Поскреб он в затылке, покачал головой, вздохнул и взобрался на коня. Возок дернуло, замотало еще сильнее, колеса загромыхали по смерзшимся комьям вспаханной земли.
Крупа перешла в снег, и скоро все вокруг сделалось белым-бело. Ветер бил им в лицо и срывал с возка меховую полсть.
«Вовремя свернули, — подумал Авраам. — В этакую-то снеговерть и с пути сбиться легко. Каково было бы добираться до города?..»
Кони стали. Мужик подошел к возку.
— Приехали, — сказал он.
Авраам выбрался на снег, поправил сползшую с плеча шубу. Огляделся.
Возок приткнулся боком к низкой изгороди; за нею виднелась осевшая набок избушка, на фоне светлого неба угадывалась корявая, словно сорванный с дерева, скрученный березовый лист, крыша. Из окошка просеивался свет.
Скрипнула на заржавленных петлях дверь. Возница перекрестился и попятился к возку.
— Эй, кто там? — спросил грубый женский голос. — Кого леший принес?..
Протаптывая сапогами дорожку в снегу, Авраам приблизился к двери.
— Я это, баушка, нечаянный путник, — сказал он, перешагивая вслед за старухой невысокий порожец. — Еду из Новгорода во Владимир, а на воле, сама видишь, какая стынь. Не пустишь ли переночевать?..
— Носит вас по миру. Разъездились, — сердито сказала старуха. — Проходи уж, коли вошел. Да только сам видишь, изба у меня мала — не хоромы.
Вдруг она зыркнула поверх Авраамова плеча и увидела возницу.
— А это еще кто с тобой?
— Мужик…
— Сама вижу, что не баба. Отколь взялся такой?
— Возница он. От самого Ростова везет меня… Смирной.
— Все вы смирные…
Мужик, шмыгая носом, смущенно постукивал лапотком о лапоток.
Авраам сел на зашатавшуюся под его грузным телом, кое-как сбитую из неструганых досок лавку, расстегнул на груди шубу, снял рукавицы.
— Дверь-то, дверь-то притвори, — заворчала старуха на замешкавшегося возницу. — Всю избу выстудишь…
Внутри было угарно и дымно, в очаге тлел умирающий огонь. На угольках стоял черный горнец и в нем что-то клокотало и булькало.
Сбросив меховой, дранный во многих местах кожушок, старуха достала с полки деревянную мису и поставила ее посреди стола. Охватив тряпицей горнец, вывалила в мису вместе с мутной водичкой подрумяненную, разваренную репу.
— Вечеряйте, страннички, чем бог послал, — сказала она и села бочком на перекидную скамью.
Авраам, глядя на стол исподлобья, велел мужику задать корма лошадям и принести холщовую дорожную суму. В суме у него был сукрой хлеба и несколько вяленых рыбин.
Все это Авраам вынул и разложил на столе. Достав из-за голенища ножик, нарезал хлеб и рыбу.
— Ешь, баушка, — сказал приветливо.
— Ишь, запасливый какой, — шамкнула сморщенным, как куриная гузка, ртом старуха.
— Ты на меня, баушка, не серчай, — сказал Авраам. — Человек я не шибко справный, да и путь позади не малый: потощала моя сума.
— Чего уж казниться-то, — махнула рукой старуха и потянулась к хлебу.
Все проголодались, ели жадно; бледное лицо хозяйки залоснилось от удовольствия, глаза повеселели. Авраам, скинув шубу, глядел добродушно. Один только возница неспокойно посматривал по сторонам.
Хозяйка заметила это, оторвалась от еды и обмахнула рот кончиком черного убрусца.
— Что глядишь, миленький? — сказала она мужику. — Уж не свататься ли вырядился? Приданое мое — два таракана в подполе да паучок-крестовичок за божницей. Аль мало за себя даю?..
Мужик поперхнулся куском и замахал руками. Старуха залилась смехом, отрывистым, как собачий лай.
— Ты, баушка, возницу мово не спугни, — строго сказал Авраам и постучал деревянной ложкой по столу.
— А чо пужать его, пужаного? — удивилась старуха. — Я его сразу заприметила, еще порога не переступил. Тутошний он, с того и пужливый… Да ты ешь, ешь, — успокоила она мужика. — Не нужон ты мне, хвост овечий. А хозяин твой находчив и умен. Кем будешь, пришлый?
— Зиждитель я. Авраамом меня зовут. А тебя как?
— Звали Любашей. А нынче не иначе как ведьмой кличут. И россечь, где изба моя стоит, прозвали ведьминой.
— Горемыка ты, а не ведьма, — покачал головой Авраам.
— Экой ты доброй человек. И глаза у тебя добрые…
— Не хвали, баушка, не то захвалишь, — смутился мастер. — Да как же ты одна-одинешенька на россечи оказалась? Кто избу тебе срубил?
— Про то долгий сказ, — промолвила хозяйка. — Да и нам не к спеху. Вся-то ночь, почитай, впереди…
И стала старуха сказывать свою жизнь. Покачиваясь на скамье, говорила глухо, задумавшись, замолкала надолго — и снова лилась ее неторопливая речь.
Эх, Любаша, Любаша — золотая коса!.. Поверит ли кто нынче, что была она первой девкой в Заборье? А певуньей, а плясуньей какой!.. И любила она не кого-нибудь, а первого Всеволодова дружинника, лихого и смелого Давыдку. Да выдал ее боярин Захария замуж за старосту своего Аверкия, слюнявого и подлого мужика…
Не откликнулся на Любашин зов Давыдка, оглох он от корысти, взял в жены боярскую дочь Евпраксию и погиб, добиваясь еще большей чести. А Захария велел за великую дерзость сурово казнить Любашу, но бежала она из Заборья — спасибо, спрятал у себя, помог ей скрыться от боярских холуев кузнец Мокей. Да вот беда — сам сложил гордую головушку от меча Захариева прихвостня Склира…
— Слухами земля полнится, — сказал возница, с удивлением разглядывая старуху. — Я ведь тоже заборский. Сказывала мне мамка про Любашу. Неужто ты та самая и есть?
— Не узнать меня нынче, соколик, — прошамкала старуха.
— Где уж узнать. От красоты твоей былой и малого следа не осталось…
— Помыкала я горюшка. Добрым людям спасибо — не дали с голоду помереть. А и злых людей немало повидала я на своем веку. Кожа моя задубела, сердце сделалось каменным…
— Да как же ты сызнова здесь оказалась?
— А так и оказалась. Прослышала я, что убил Всеволод Давыдку, — вот и возвернулась хоть глазком единым взглянуть на его могилу. Шибко осерчал на него князь, не велел хоронить во Владимире… Положила его Евпраксия во сыру землю в своем Заборье, а сама ушла в монастырь. Отыскала я могилку. Буйной травой заросла она и репейником. И не верилось, что лежит под нею ясный мой сокол.
— О Давыдке тож мамка мне сказывала, — снова прервал ее возница, — Не любят у нас Давыдку и слышать про него не хотят…
— Ох, миленький. Да что мамка сказывала! Сама я через него всю жизнь свою загубила…
Глаза старухи наполнились слезами. Авраам строго поглядел на возницу, ласково проговорил:
— Ты дале-то сказывай, баушка. Что дале-то было?
— А ничего и не было. Встренулся мне во Владимире один холоп, тож беглый. Сошлись мы с ним, две неприкаянные души, туды-сюды сунулись — нигде житья нет. Вот и перебрались на енту самую россечь. Избу мужик срубил, золотые были у него руки. Да недолго вместе прожили: задрал его, сердечного, медведь в уреме… Так и живу я одна сколь уж лет. Захариевы-то деревни и Заборье вместе с ними, сказывают, Кузьме Ратьшичу князь наш отказал. Про меня все и забыли…
Не спалось Аврааму в ту ночь, покряхтывал он, ворочался, лежа на шубе возле печи. Ворошил в памяти прошлое, задыхался, прикладывая руку к груди…
Вспоминал, как ехал по деревням, как униженно кланялись ему смерды, снимая шапки, как заглядывали в лицо исполненными тоски глазами. Чем богаче Русь, тем беднее… Вспоминал бойкие новгородские торговища, сваленные в груды шелка и парчу, дорогие меха и кожи — несметные сокровища проходят через руки простых людей, а где они?.. Утекают сокровища в заморские страны, скудеют леса и нивы, и все дальше на север, к самому Дышучему морю, идут купцы, везут на торговища белую моржовую кость, соболей и лисиц. И вслед за купцами ставят на новых землях бояре свои знамена…