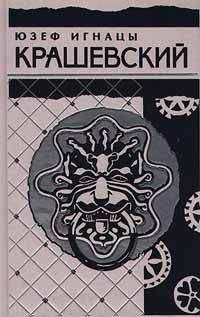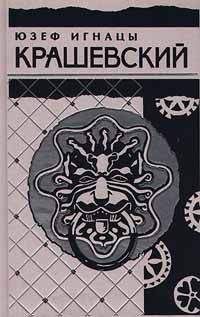проехали, сколько видели этих лиц в белых платках, и все были, как дьяволы, страшные!
– Этих двух хватит за тысячи! – начал Герон с пылом. – Ты знаешь, что у нас в городах и бургах довольно красивых лиц, что солнце не опалило и работа не сделала серыми, но таких отродясь не видел, не мечтал, что такие могут быть на свете!
Ганс смеялся.
– Вот как голодному хлеб с костями пахнет! – сказал он.
Герон даже немного разгневался.
– Не простые это девки, – добавил он, – потому что я много тех видел, идущих с кувшинами за водой, а всё-таки не восхитился ими, потому что, хоть личико было неплохое, выглядели как красные колоды, но тем только крылья дать, полетели бы в облака.
– Ты с ума сошёл, – сказал Ганс.
– Оно то ничего ещё, что красивые, – говорил Герон, успокоиться не в состоянии, – очень странная вещь, что две так похожи друг на друга, что одну от другой не отличить, и если бы человек влюбился, то должен был бы в обеих.
– Это тебе на руку, – сказал Ганс, – потому что, когда ты влюбляешься, тебе всегда не достаточно, но у тебя от раны в ноге глаза скривились… или шутишь надо мной.
Герон снова приблизился к Дзиерли, пытаясь из неё что-нибудь вытянуть. Видя его увлечение, баба сжалилась и разными движениями показала ему, что они стояли высоко, что были панские дочки, что пан сыновей не имел, только их двоих, и что, пожалуй, только князья были бы их достойны.
Всё это дать понять без помощи слов могла только ловкая Дзиерла и такому восхищённому и легко угадывающему, как Герону… Она показывала на весь замок, вверх к небу, прикладывала руки к сердцу… поднимала глаза и опускала.
Чего Герон не понимал, то догадался.
Несколько слов он уже выучил от старухи и отвечал ей также, прижимая руки к груди, поднимая глаза вверх, что страшно влюбился в девушек.
Дзиерла руками выразительно отвечала ему, что он о них не мог и думать…
Когда старуха вышла из комнаты, Герону на весь вечер было о чём говорить Гансу, который, хоть был терпелив, сильно заинтересовался. Опухшая нога, которой двинуть не мог, о том, что можно подсмотреть через забор, не давала и думать.
Смелый Герон на следующий день так был нетерпелив узнать что-то больше, что признался прямо ксендзу Жеготе, что видел, и спросил о девушках.
Услышав об этом, старый ксендз сильно испугался – долго не мог ему ответить, и наконец, делая суровое лицо, коротко отчеканил:
– Не годится злоупотреблять гостеприимством. Вы видели дочек моего пана. Больше об этом говорить не хочу и не буду.
Герон извинился перед старцем и замолчал. Выходя, Жегота ещё сурово ему напомнил, чтобы на дворе не паказывался и несчастья на его голову не привёл.
Пришедшая на следующий день Дзиерла сама начала вызывать на баламутный разговор о девушках, бабе улыбалось то, что парень мучился и от любви терял голову. Она привыкла к этому среди девушек и батраков. Это возвращало ей незабываемую молодость и она грелась у этого огня.
Герон рад был хоть с ней говорить о них, узнал даже имена Хали и Халки, которые, как безумный, постоянно повторял.
Несмотря на запрет ксендза, его уже ничто не могло остановить от того, чтобы постоянно стоять при заборе у щели, которую своим ножом осторожно расширил так, чтобы удобней мог выглядывать.
Но этому чудесному явлению, такому желанному, нескоро снова суждено было показаться. Герон возвращался в избу и, вздыхая, говорил Гансу:
– Никого не было! Я видел двух собак и половину телёнка!
Жизнь Лешека Белого в Краковском гроде с того времени, как большое покушение Генриха Силезского было неудачными и окончилось союзом, протекала спокойно, тихо, счастливо, так, как он сам желал, наполовину с семьёй, наполовину в лесу, на коне, либо в рыцарских турнирах и играх.
Все наболее важные дела страны, как некогда при отце Казимире, лежали на плечах епископа, зависели от его совета и направления.
Иво и умом, и святостью, и величием предводительствовал всем краковским рыцарством, и даже Яксы, настроенные к нему враждебно, громко против него шуметь не смели. Лешек был рад, привыкший к этому при жизни матери, всегда искать опекуна, на которого мог бы оперется. Такими были для неё и для него Говорек попеременно с Миколаем Воеводой – несколько раз это предчувствие собственной слабости делало их покорными даже Мешке Старому, а позже Тонконогому.
Почти вынужденный после битвы под Завихостем захватить краковскую власть, Лешек не сразу согласился занять место Тонконогого, только после того, как стал уверенным в помощи Марека Воеводы и епископа Иво.
Мы уже говорили, что Марек и Яксы предали пана, поэтому остался один епископ Иво, на которого Лешек мог безопасно опереться. Это было для него вещью очень желанной, чувствовал себя спокойным.
От отца ему досталась набожность и мягкость, от матери – слабый характер, который не может выдержать на одном решении; епископ был ему нужен – был для него настоящим отцом. К счастью, был это муж правильный, которому только избыточные занятия небесными вещами порой не позволяли предвидеть все земные. Время от время посещая западную Европу, Францию и Италию, Иво легко проникся той духовной религиозной экзальтацией, какая в них царила. Над всем тогда поднимался религиозный энтузиазм. Экстатичные порывы к небу, добровольное умерщвление жизни, душевное единение с Богом стали единственной целью для людей образованных, а толпа пыталась идти по их следу. Появлялись ордена, уже не как ранние, бенедиктинцев и цистерцианцев, посвящающие себя наукам, подручной работе, обращению и просвящению, но пустынной жизни во власянице и железных поясках, в бичеваниях и постах, в сверхчеловеческом умерщвлении, которые из уз тела вызволяли душу.
Иво желал привить этот дух у себя в стране. В Риме он смотрел на чудеса Доминика, наслушался о бедных монахах, перепоясанных верёвками в Ассизии, примеры тех великих людей не давали ему покоя.
И он, может, предпочёл бы пойти по следу этих мэтров и отречься от всего земного так же, как магистр и пастырь Винсентий, который, сложив на алтаре митру, надев облачение цистерцианцев, пошёл закончить жизнь в тихой монашеской келье. Но Иво, епископу Кракова, который стоял наравне с Гнезно, не годилось оставлять охрану слабого и доброго князя.
Дело шло о мире в стране, и в то же время о счастье того человека, к которому привязывался каждый, кто его знал и с ним жил. Лешек, предоставленный сам себе, пал бы