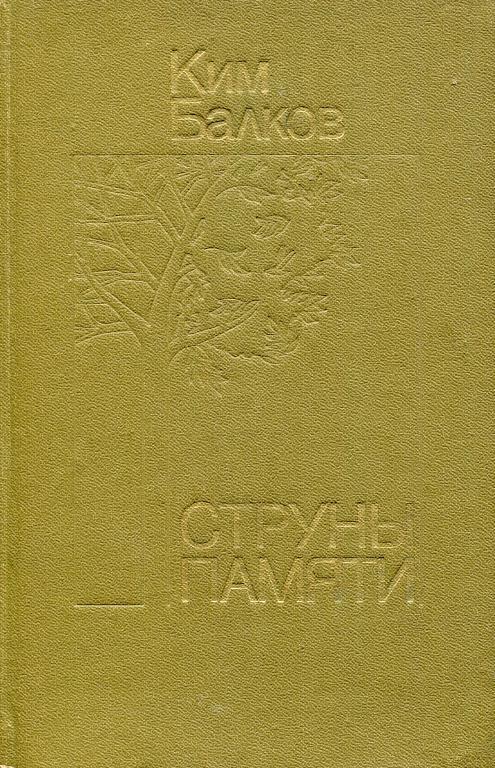же появилось это томление, чуждое его душевной сути, он не знал. Или хотел бы думать, что не знал?.. «О, Всемогущий, владычествующий над безбрежностью небесного и земного мира, скажи, отчего мной овладело томление и в теле обозначилась слабость?» Атабек помедлил, точно бы ждал ответа, не дождался, толкнул острым носком мягкого сапога с серебряной обшивкой низкую дверь и распахнул ее. Кто-то из гулямов забежал вперед, но Бикчир-баши, опять же невесть чему следуя, но скорее тому, что творилось в душе, уже и не томящее, а как бы даже притопляющее сущее в ней, схватил воина за полу длинного желтого халата и велел ему посторониться, а сам прошел в жилище. Долго привыкал к сумраку, висящему в нем и ничем не оживляемому, даже дыханием ветерка, залетающего в распахнутую дверь. И уже решил, что тут никто не живет, когда услышал тихий стукоток, донесшийся из дальнего темного угла, и увидел белого, подобно облаку, затерявшемуся в пронзительно чистой синеве неба, старца и сказал что-то, имеющее отношение к приветствию, но, может, и что-то другое, он и сам не осознал этого до конца, а чуть погодя подумал, что старец не понял его, и он хотел бы выразиться как-то яснее, и не успел. Старец, сидящий с зажженными лучинами в руках, сказал легко и свободно, словно бы ждал атабека и был доволен, что тот пришел к нему:
— Проходи… гостем будешь, человек, бредущий не своею дорогой.
Бикчир-баши вздрогнул, спросил с недоумением, к которой примешалось неприятное чувство страха:
— Отчего же не своей?
И откуда бы взяться этому страху? В жилище, кроме дряхлого старика, никого не было.
— Ты что же, не веришь мне? Да, я темен, мои глаза закрыты для солнечного дня, но ночью они, уже многие леты незрячие, прозревают, и тогда я вижу вьюношу, бегущего по теплому весеннему лесу и радующемуся малой травинке. Она шелестит под его босыми ногами так приятно, что ему хочется плакать от счастья, ведь земной мир принял его, неразумного. Тот вьюноша — я … И я вижу себя таким, каким был многие леты назад, а еще вижу путь, которым пройдет вьюноша по жизни, пока злые руки не схватят его и не поднесут к его сияющим, зрящим всю безмерность мира очам раскаленные прутья… Случается, я вижу и тебя рядом с тем вьюношей, хотя ты еще пребываешь в утробе матери, и спрашиваю у тебя, нерожденного: чего ты хочешь, к чему устремлена душа твоя? Кто предаст ей надобную для существования в пространственном мире огранку? И не нахожу ответа. Уста твои немы. И я не знаю, почему? Разве тебе нечего сказать в ответ на тревожные мысли, которые иной раз приходят и в твою голову?
— Я не понимаю, о чем ты говоришь, старик, — сухо сказал атабек. — Я даже думаю, что слова твои бегут впереди мысли. А может, ее уже нет у тебя? Может, она разрушена летами?
— Я так не считаю. Рожденное в мыслях облекается в слова. Те слова могущественны и способны увлечь, но только того, кто хотел бы понять, что скрывается за ними. Ты не хочешь понять. Ты боишься. Как боятся и все твои соплеменники, ступившие на чужую тропу и пролившие кровь невинных. Зачем ты пришел в росские земли? Скажешь, по собственному разумению? Да нет… Ты давно догадался про это, и тебе стало страшно. Рожденный для благих дел, ты, хотя бы и не по своей воле, сделался гонителем племен, не принявших чужого Устава. А не боишься: придет время, и внуки твои и правнуки будут гонимы и избиваемы теми, кому ты служишь ныне?
Старик еще о чем-то говорил, но атабек не слушал, смута вошла в его сердце, великая и гнетущая. Нельзя было совладать с нею еще и потому, что она ни к чему не звала, как если бы уже давно отыскала в нем надобное для себя пристанище. А почему бы и нет? Иль все, что сказано старцем, не волновало его в прежние леты? Да нет. Случалось, задумывался об этом, хотя и не так, чтобы растолкать в душе, а как бы с нежеланием что-то поменять в однажды обретенном пространстве.
Лучины в руках у старца догорали. Еще немного, и в жилище сделается темно и ни к чему не притягиваемо. Но атабек все стоял и не знал, как ему поступить: лишить ли старца, вторгнувшегося в его душу, жизни, даровать ли ее ему? И, не умея отыскать правильного решения, Бикчир-баши, в конце концов, горбясь, вышел из ветхого жилища, которое непонятно, на чем только держалось, не разваливалось, расшурованное ветром, не оседало на землю гниющей древесной плотью. Отъехал хмурый.
Бикчир-баши с сотней гулямов, закованных в легкое, упругое и надежное железо, каленая стрела со злым наконечником обламывалась об него, оставил позади Самватас, свернул на те тропы, что вели к кочевьям пайнилов. Но не доехал до них, поскакал встречь вольному Полю, а оказавшись на самой макушке его, повел отряд по едва проглядываемой сквозь степное разнотравье прямой и гибкой тропе. Он уверенно сидел в седле, еще недавно мучившие мысли отступили, точно бы стало трудно бороться со сладким, чуть горчащим воздухом вольного Поля. На смену пришло свычное с его сердечным настроем чувство уверенности в себе и воинах, которые следовали за ним, о чем-то негромко переговариваясь, но так, чтобы не помешать ни чему происходящему в них ли самих, в атабеке ли. Им, привыкшим к непростому нраву своего командира, было теперь приятно наблюдать за ним, отряхнувшим с себя недавнее оцепенение. Каждый думал: значит, все идет так, как надо, и даже то, что, сразившись с россами, они оставили за ними поле сражения, ничего не поменяло в них. Зато они поняли, что теперь имеют дело с людьми, отлично овладевшими воинским ремеслом. Непросто будет одолеть их. Что ж, тем лучше. Будет с кем сразиться!
Атабек часто сменял заводного коня. Ближе к ночи он определял, в каком месте дать отдохнуть людям и лошадям, если вдруг поблизости не оказывалось обжитой ямы. В Саркеле он провел ночь, а через день стоял у ворот Итиля.
— Э-ге-гей!.. — кричал некто голосом натянутым и упругим, подобно тетиве лука, но вдруг что-то сотворялось, и голос слабел, делался мягче, напевнее и обретал сходство с лопнувшей струной в гуслях. Кричал некто; Святославу же казалось, что голос принадлежал не живому существу, а раменям, дивно густым и почти непроходимым возле Удалого градка, куда привел он дружины. Уже