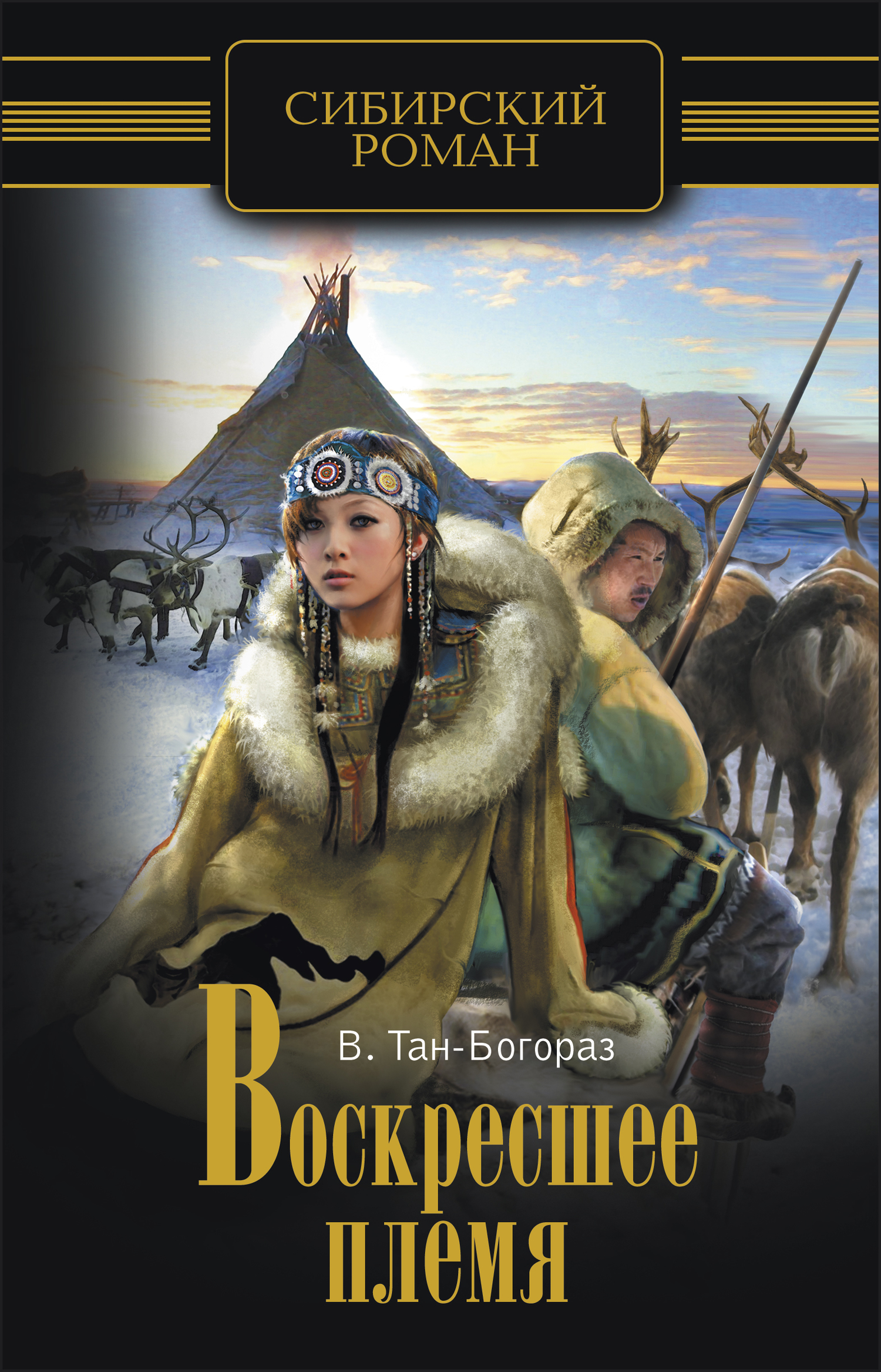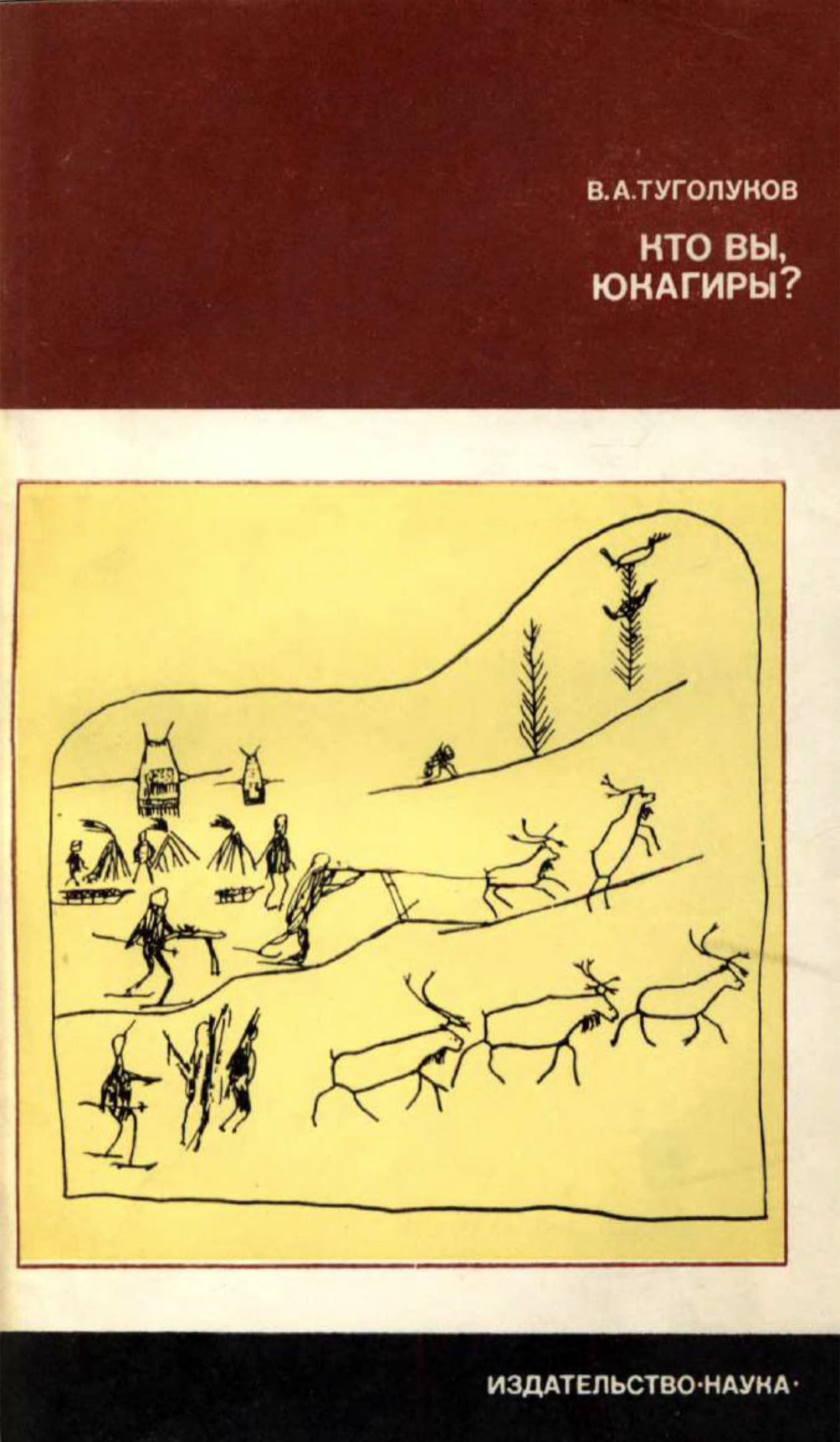потом поднял, посмотрел и стал наконец писать, точнее — рисовать обломком карандаша, стиснув его в кулаке, как острие кинжала, и опять-таки наотрез отказался переменить прием.
Обычные приемы и объекты труда в захолустном Родымске, пища, жилище, посуда были, в сущности, те же, что и в далеком Коркодыме. Та же река, рыба, речные избушки, мережи и сети для лова, звериные шкурки, осторожно сдираемые с тушки и расправляемые на пяле для сушения. Но каждая малейшая неизвестная подробность ставила Кендыка в тупик. Прибор для еды, например. Он ловко управлялся с ложкой и складным ножом для разрезывания пищи, но, попробовав взять вилку, больно, до крови наколол щеку.
Тогда с обычным раздражением он ткнул вилку в стол, глубоко всадил ее в дерево, дернул, сломал и выкинул в окошко.
Мясо, рыбу, сухари, даже квашеный печеный хлеб он ел без стеснения, но однажды к завтраку Темп открыл жестянку со шпротами. Кендык попробовал их, и его жестоко вырвало.
— Железный хлеб, худо… — сказал Кендык. Он хотел объяснить, что пища из железной коробки пахнет паяльной кислотой, которой не может выносить человеческий желудок.
Кендык внимательно присматривался к своему новому другу. В поселке Родымск и других приречных поселениях, жители которых говорили по-русски, Темп чувствовал себя как рыба в воде. Он входил во все подробности жизни, старался помогать беднейшим, выписывал для них на казенные средства сети, невода, даже новые лодки — вельботы, которые доставлялись с большими затруднениями в разобранном виде зимою на санях, а летом на вьюках.
Темп проводил политику Советов — он пресекал угнетение слабых сильными, порою незаметно и мягко, а порою очень настойчиво и жестко.
Полурусское население Родымска было глубоко развращено своими вековыми привилегиями Оно привыкло жить торгашеством, мелким и даже мельчайшим, но при случае и довольно крупным. Объектом для обмана был инородец, «полевой человек», а нередко также и собственный сосед — мещанин, и даже казак.
Богатые и бедные были опутаны узами родства и свойства. Какой-нибудь двоюродный дядя пуще всего высасывал кровь именно из своих обедневших, осиротевших малолетних племянников. Часто получались довольно запутанные случаи. Темп разрешал их осторожно и умело, как опытный хирург.
Один такой случай произошел при Кендыке. Бытовые подробности жизни родымцев выросли, в сущности, на той же одунско-чуванской основе, и Кендык легко понимал, что к чему.
В 1919 году, в эпоху жестокого голода, неулова рыбы, недовоза товаров, старуха Румянцева продала Федьке Кошелеву свою малолетнюю дочку Феньку. Кошелев был мелкий скупщик, собиравший у чукч оленье шкурье и готовую одежду. Федька, как многие другие родымские мещане, был холост, не имел семьи, а для разных домашних услуг приискивал девочек вроде румянцевской Феньки.
Федька Кошелев приходился старухе Румянцевой кумом и принял Феньку в дочки, однако не навсегда, а только на десять лет.
Такая покупка на срок часто встречалась на Севере. Для девочки она начиналась работой, а кончалась сожительством, порой добровольным, а порою насильственным, после чего, отбывши свой срок, откупленная дочка могла вернуться обратно в свою первоначальную семью.
Фенька работала для Федора лет пять без всяких приключений. Не досыпала, не доедала, носила обноски, как водится повсюду в подобных случаях. Федор присматривался к ней и ждал, когда она созреет и войдет в свою девичью силу. Потом в половине откупленного срока он попытался осуществить свои «отцовские права». Но Фенька встретила названного отца ногтями и зубами и выскочила в одной рубашке, босая вон из избы. Соседи изловили ее и привели обратно к Федору: «Возьми свою беглую сучонку да поучи ее жезлом» [37].
Фенька, однако, оказалась такой отчаянной, что Федор не решился действовать жезлом. Он пробовал даже ласковые уговоры, но Фенька ничего не хотела слышать и через две недели ушла опять, и более удачно, чем прежде, на этот раз не одна, а вместе с троюродным братом, тоже Румянцевым, Микшей. Микша Румянцев был тоже безродный сирота и такой же отчаянный, как Фенька. Они убежали из Родымска в деревню Коретову, за семьдесят верст, и оттуда прислали письмо своему старшему дяде: «Попробуй, достань нас, все кишки выпустим!» Они поселились в Коретовой у старухи Натальи Сельдихи, которая давала убежище и возможную защиту бабам и девушкам, попавшим в беду. Наталья слыла в Околотке под именем Сельдихи Справедливой. Федор прождал с полгода, ничего не предпринимая. А теперь он дождался приезда большого начальства. Недолго думая, он подал Лукошкину жалобу на обеих женщин: Феньку Румянцеву и Наталью Сельдиху. Феньку он обвинил в краже ситцевого платья, коврового платка, суконной шубки и шапки, одним словом, всего того барахла, которое было на ней надето во время бегства. Наталью он обвинял в укрывательстве и просил привезти обеих казенными средствами из Коретовой в Родымск для разбора его жалобы. Лукошкин призвал Кошелева и расспрашивал его внимательно, даже сочувственно.
— Кем вам приходится беглая Фенька Румянцева?
— А я ей откупной отец, по-вашему, стало быть, приемный отец. Она мне выходит, с одной стороны, трехродная племянница, а с другой стороны, откупленная дочка. Я ли об ней не заботился? Вырастил, выкормил. Думал пользу себе получить, а она осрамила меня при старости лет, зубами изгрызла, рубаху на мне изорвала и к мальчишке ушла, такому же безродному нищему…
Федор называл самые рискованные вещи простыми именами и готов был рассказать Лукошкину интимнейшие подробности своих похождений с откупленной девчонкой.
Лукошкин немного подумал.
— Грех, стало быть, вышел, — сказал он наконец.
— Как же не грех, — с готовностью подтвердил Федор, — если с мальчишкой ушла. Совсем простоволосая, так и живет с непокрытой головой.
— Надо, стало быть, прикрыть, — мягко предложил Лукошкин. — «Венцом» покрыть, пускай живут да каются. Ежели оба такие отчаянные, так будут они каяться. По-вашему как?
Федор потупился.
— Ваша воля, — оказал он неприязненно и глухо.
— А вы, стало быть, как дядя и отец, — веско продолжал Лукошкин, — вы дайте ей приданое, какое полагается, а свадьбу отпразднуйте в собственном доме, честь честью.
Федору пришлось покориться и отпраздновать свадьбу своих ненавистных обидчиков.
В конце концов он не ударил лицом в грязь, отпраздновал свадьбу на славу и даже выставил три бутылки спирту, которые прятал в подполье для чукотского торга весною.
Со старухой Румянцевой они встретились как старые друзья, пили, обнимались, плакали и пели.
Таким образом, волею судьбы и Лукошкина Федор Кошелев вошел в положение настоящего отца.
Этот поворот запутанного дела, которое при старом начальстве кончилось бы, наверное, жестокою поркой для обоих беглецов, сразу привлек к Лукошкину умы и сердца всего родымского