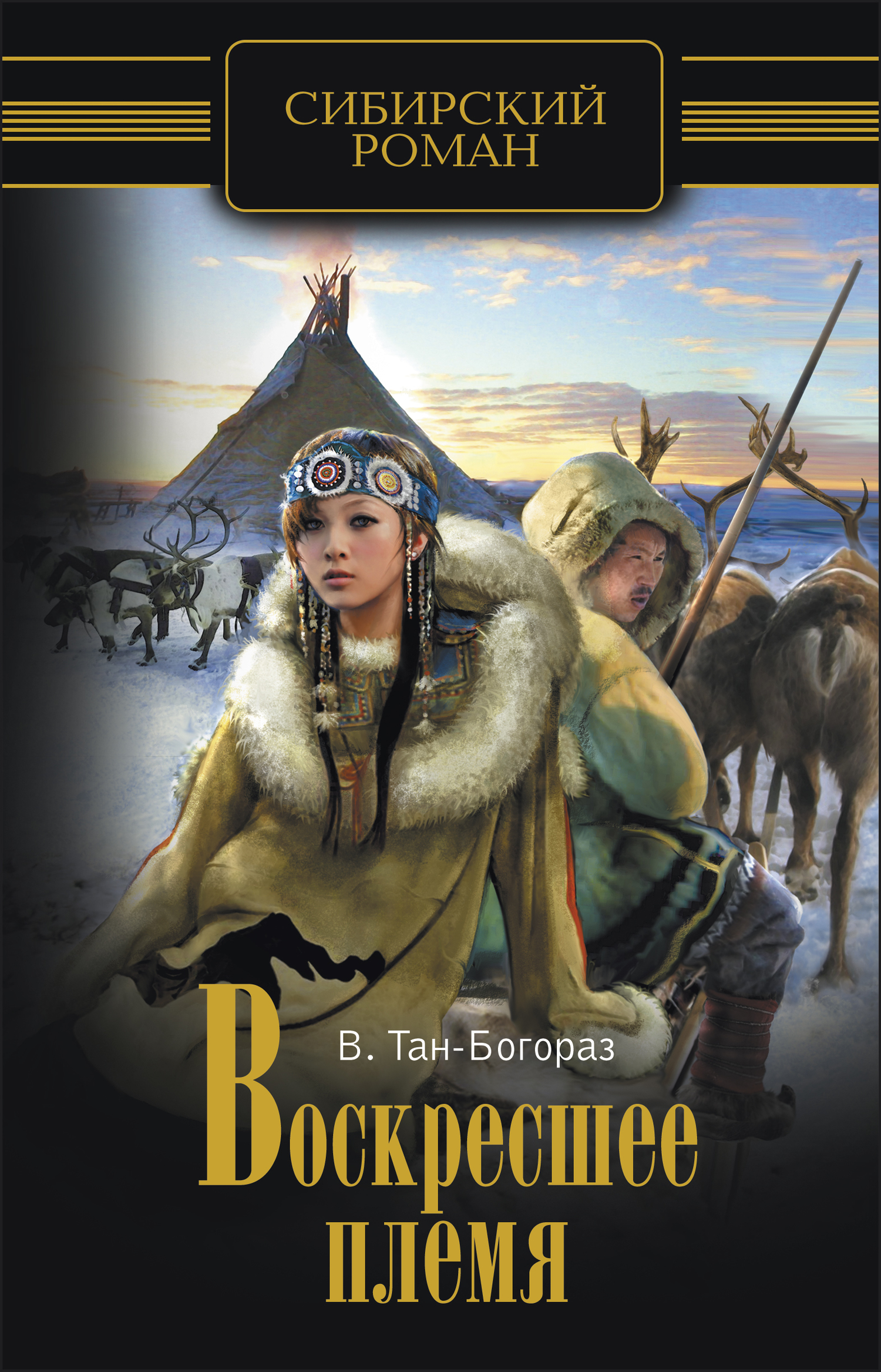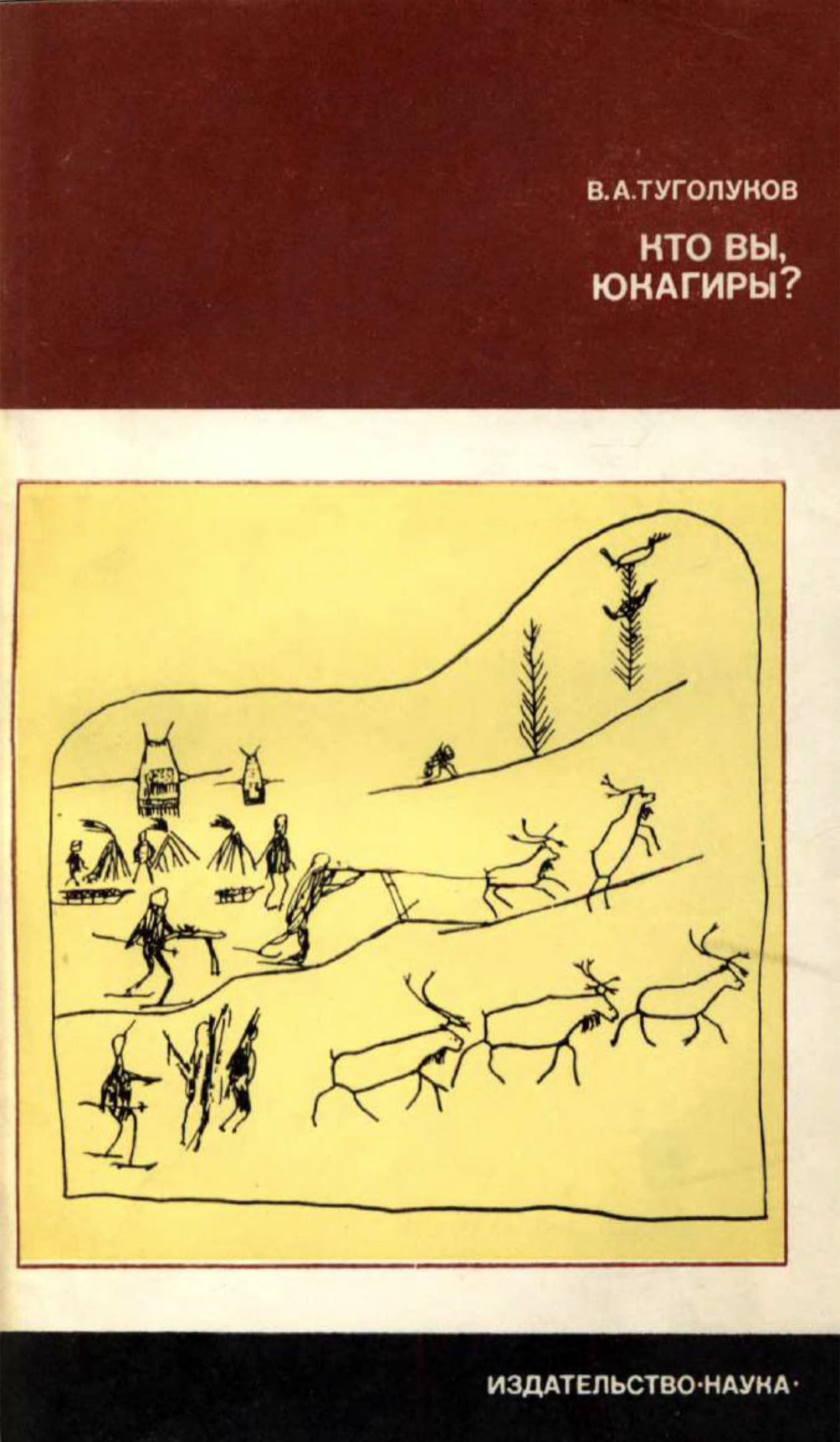заголовка.
— «П-р-а-в-д-а», — прочитал он громко. — Газета такая.
Старый писарь Запалов, работавший в рике впредь до замещения, на правах вольнонаемного, порылся в своей памяти и наконец отыскал якутское слово «кырдык» [33]. И Кендык понял.
— Ага, ичугей кырдык [34], — сказал он по-якутски — juwuj [35], — перевел он на свой собственный одунский язык.
— Откуда ты? — спросил Лукошкин, который разбирался в местной географии по старым печатным и писаным картам лучше, чем в отношении местных народностей.
— Одун, Шодыма, Коркодым, — ответил Кендык.
Первые два имени Лукошкин разобрал вполне, а о далеком Коркодыме он слышал рассказы полу-баснословные. Он даже не мог решить, не есть ли это одна из легенд о «незнаемых народах», которые вообще циркулируют на Севере в великом множестве. К старым московским рассказам о песьеглавцах и о зонтичноногих людях Север прибавил рассказы о людях-половинках, с одною рукою, с одною ногою, о закатных тунгусах, которые с вечера выходят из-под земли, а утром уходят назад, о людях беломедведных, которые обитают в океане, во льдах, питаются нерпою, о людях дельфиньих, которые имеют три образа и одновременно являются в океане дельфинами-касатками, рвущими на части китов, а после выходят на сушу, становятся волками, нападают на оленьи стада и тоже терзают и рвут. Далее волки уходят на юг и становятся страшными людьми-людоедами.
Коркодымских одунов легенда тоже называла людоедами, должно быть, в память о гибели полурода Балаганчиков при старой шаманке Курыни.
— Ого, Коркодым, — попробовал Темп получить разъяснение. — Люди-кушай нету?
И он выразительно закусил зубами свою собственную руку.
— Сох, сох! [36] — решительно затряс головою Кендык.
Он стал гримасами и жестами объяснять свою историю. Лукошкин не понял ничего, а старый Запалов еще хуже того — понял Кендыка превратно.
Кендык в разгаре рассказа вытащил ножик и махнул им в воздухе. Он хотел показать, что его собственный дед собирался его убить в Коркодыме.
Запалов испугался и отскочил назад.
— Перестань! — крикнул он. — Должно быть, убил кого-нибудь и убежал оттуда.
Темп покачал головой и высказал догадку, более близкую к истине:
— Не его ли хотели убить?
В конце концов Кендык вернулся к теме, более занимавшей его внимание.
— Г-а-з-е-т-а, — выговорил он довольно чисто. — Давай… — прибавил он второе русское слово, знакомое на всем Севере, ибо его повторяли постоянно исправники, взимавшие ясак, и попы, взимавшие белок и лисиц за свои христианские требы.
— Давай, давай.
На этот раз туземный юноша обратился с требованием к русским пришельцам из неведомого далека.
— Давай «Правду» — кырдык — juwuj… — Мальчик, очевидно, требовал, чтобы его научили читать и понимать всю эту правду, напечатанную черными знаками на таких широких бумажных листах.
Темп не был учителем, но все-таки с газетой не стал возиться, а вытащил свежинку — букварь, который только что попал на северную тундру из далекого Ленинграда, за десять тысяч километров.
То был русский букварь для северных народностей, составленный довольно старомодно, но с северными темами, а главное, с хорошими рисунками. Кендык жадно схватил эту книжку, как будто кусок пищи, даже руки у него затряслись. Он увидел на обложке северного человека, который едет на нарте, запряженной оленями.
Быстро перелистывая страницу за страницей, он радостно смеялся, тыкал пальцами в занятные картинки и даже подпрыгивал от радости. Тут были соболи и белки, упряжные собаки и упряжные олени, ловушки и охотники. Наконец он нашел картинку: юкагир на лесной охоте. Там ехал человек на узком челноке, с шатиной, метательным копьем, предназначенным для птицы. Кендык пришел в необычайное волнение.
— На, на, смотри, — подскочил он к Темпу, — это я, это Кендык, вот мой челнок, вот мое лицо.
И он тыкал поочередно пальцем в нарисованного человека и в свою собственную грудь.
Темп заинтересовался. Они стали искать вместе общий язык.
Кендык указывал на оленя и говорил по-одунски:
— Кудедё.
Темп переводил по-русски и прочитывал:
— Олени.
Так они занимались часа два. Трудно с непривычки приходилось и Кендыку, и Темпу. Темп даже вспотел с натуги.
— Ну, темпы, — сказал он, — пойдем, пообедаем.
Кендык поселился при рике, в каморке, соседней с кабинетом Лукошкина. Но с самого начала вышли осложнения. Каморка была узкая и низкая, с одним окошечком. Кендык никак не соглашался закрыть дверь, а ночью закрыл на минутку, посидел и выскочил стремительно наружу.
— Ты бы меня в табакерку посадил, — бросил он в виде упрека своему новому другу.
И для большей вразумительности вынул из кармана свою берестяную тавлинку.
Видя недоумение Темпа, он обвел глазами кабинет, увидел легкую палатку из синей добы, лежавшую в углу, и сейчас же нашелся, вытащил палатку из избы и втащил ее на плоскую кровлю. Одна половина рика была построена по-новому, с покатой тесовою кровлей, а другая — по старине, плоская, покрытая лиственным войлоком и засыпанная плотно землею.
Там, на плоской кровле, Кендык тотчас же разбил свой шатер и указал на него с торжеством своему новому другу.
Темп не поленился тоже полезть на крышу вместе с самодельным фонарем, он светил Кендыку и даже помогал. Таким образом Кендык поселился в пределах владений Лукошкина, если не в доме, то все же на доме, на той же обитаемой почве.
Они подружились, называли друг друга на «ты» и даже имена подобрали похожие: Кендык — Андек.
Кендык называл Лукошкина Андек, в сокращении от имени Андрей.
Так прошло несколько дней. Мальчик ревностно учился русскому языку, чтению, отчасти при помощи Лукошкина, отчасти помимо него. Каждый час его жизни в Родымске был, в сущности, ученьем. Разговаривая с русскими, он был всегда настороже, подлавливал, запоминал новые слова, и самое учение он называл «охотой за словами». Через месяц он научился довольно сносно говорить по-русски, конечно, о ближайших житейских предметах, более или менее знакомых.
Другие особенности новой невиданной жизни он воспринимал, напротив, до крайности туго. Эту странную неприспособленность он вносил даже в свою учебу.
Писать он научился отчасти на родине, срисовывая на глаз печатные буквы и слова, еще совершенно непонятные. Он писал эти слова своими собственными орудиями: углем, кончиком ножа, потом острою палочкой, обмакнутой в ягодный сок. Но здесь, к удивлению Темпа, он наотрез отказался от чернил и пера, которые употребляли все окружающие. При первом же опыте он опрокинул высокий пузырек с чернилами, залил бумагу и вымазал руки, щеки и нос.
Тогда с раздражением он схватил пузырек, как хватают злого кусливого зверька, вынес его на улицу и выбросил вон.
К карандашу он оказался более терпимым, хотя первый карандаш хрустнул и сломался в его напряженных пальцах. Он бросил обломки,