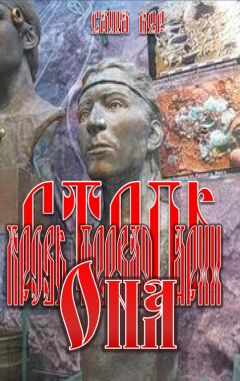— Ой, Зорька, чё т я боюсь за тебя, — покачивая головой, выдала Хабарка.
— Да, подруга. Я сама за себя боюсь, а кажись скоро и себя саму бояться начну, — ответила Зорька таинственно.
Странно, но она не боялась больше родов. Молодуха была абсолютно уверена, что ни с ней, ни с ребёнком ничего не случится. Она сейчас больше боялась того, что будет потом и своей роли в этом «потом». Хабарка явно ничего не поняла, но переспрашивать не стала, или просто пропустила её слова мимо ушей, считая их такими же «для приличия», какими были и её собственные. Зорька с неохотой собралась и пошла к вековухе в баню. Перед самым входом остановилась, оглянулась. С какой-то неописуемой печалью на лице, посмотрела на стоявшую у края кибитки подругу и скрылась в шатре.
Кумление для неё прошло как в тумане. Ничего не запомнила, да и не хотела. Сказалась и бессонная ночь, и травы-дурманы, которыми её опоила Хавка. Помнила лишь, что голова кружилась, когда вокруг куклы ходила. Потом, наплевав на всё, заявив, что хочет спать, завалилась на лежак Хавки и уснула, услышав лишь напоследок жалостливые слова вековухи:
— Чиста ты душа, как слиза ни замутнёна. Жалко то тибе как.
После чего Зорьке даже показалось сквозь сон, что та заплакала, а может это уже во сне приснилось.
Проснувшись, она почувствовала себя сама не своя и это чужеродное состояние её теперь преследовало постоянно. Она стала замкнута, абсолютно перестала с кем-либо разговаривать. Даже Ардни, поначалу пытавшийся её как-то растормошить, вывести из этого замороженного состояния, довольно быстро плюнул и просто перестал бывать дома, даже спать не всегда являлся. А когда на полную луну её прорвало, и она начала, ползая на коленях, выпрашивать у него прощения и прощаться с ним на всегда, он перепугался, даже сбегал к Хавке. Та, по каркав своим старческим смешком, объяснила все прелести Прощальной седмицы и атаман, плюнув на всю эту грёбаную бабью стаю, собрал ближников и умчался в очередной поход, куда по дальше.
Роды были болезненными, но Зорька с удивлением отметила, что ожидала чего-то значительно хуже. Девочка родилась здоровенькая, без изъянов и сразу красивая, в чём ни роженицу, ни повитуху даже уговаривать не пришлось. Радовались обе. Хотя, что там могла разглядеть слепая Хавка, не понятно, да Троица[40] с ней.
Шум вернувшейся ватаги Зорька услышала лишь пару седмиц спустя после родов, но муж к ней так и не зашёл. Попытался разок, но Хавка грудью встала с той стороны прохода, все рычания атамана однозначно разбивая об «Нельзя!». Долго ему что-то объясняла о нелюдях, стращала, запугивала, но в конце концов всё же уговорила.
А дальше произошла настолько неожиданная вещь, что в голове у Зорьки так и не уложилась до конца её дней. На сороковой день, когда дочь превратилась из нелюдя в человека и радости Зорькиной не было предела, так как банное задержание её закончилось и всё обошлось, как нельзя лучше. Хавка, плача от счастья за своё потомство, взяла и померла. Произошло это как-то буднично и Зорьке по началу показалось всё это не по-настоящему. Она так шутливо подвинула их на край лежака, сама шустро устроилась на нём, вытянулась, глазки закрыла, не переставая улыбаться и проговорила, довольная, бодрым голосом:
— Раскуманиватси ни смей, так повязь со мной останитси. Тольк ты мине в реку схорони, чёб к Дедам попала. Прощивайти, девоньки, мои.
Глубоко вздохнула, выдохнула и всё. Зорька хотела какую-то шутку отпустить, мол ты ещё нас переживёшь, но осеклась. Померла Хавка.
Хавку Зорька похоронила, как та и просила, притом лично выехав на атаманской колеснице до реки, лишь на пару с колесничим, настояв на этом, и воспользовавшись замешательством мужа. Ардни был в каком-то странном состоянии. Он проявлял и радость и даже простое человеческое счастье от держания своего первенца на руках, тут же сквозила воздержанная «невтерпёжность» соскучившегося мужчины по своей женщине, всё это сверху накрывало неясное чувство тревоги и непонятно откуда взявшейся ощущение скорби по умершей вековухи и самое главное, что его подкосило — это удивление поведением Зорьки. Он просто не узнавал её. И это не от того, что она похудела и осунулась лицом, она изменилась внутренне. Он даже высказал ей вкрадчиво предположение, что её эта старая ведьма подменила, потому что это была не Зорька. Вошла, мол, в шатёр девка, девкой, а вышла бабой, да ещё нет, нет да в глазах эдакая матёрость сверкает. Было видно по нему, что это напрягало атамана, беспокоило. А когда она нахрапом, просто потребовала дать ей возничего с колесницей, как само собой разумеющееся, ибо обещала Хавке, а обещанное следует выполнять, он спокойно и даже покладисто согласился, будто это не жена просила, а один из его ближников, которому в таком деле и отказать нельзя. Только когда она уже покинула лес, он вдруг опомнился и кинулся с двумя колесницами вдогонку. Не для того, чтобы остановить, а лишь прикрыть в случае чего. Но ничего не произошло, а атаман даже не стал приближаться к реке, наблюдая, как Зорька топит труп из далека. Лишь вечером, когда она покормив убаюкала ребёнка и пришла к нему, она на какое-то время вновь стала прежней Зорькой, щебеча по девичьи ему на ушко о том, как соскучилась да ласкалась, как это делала прежде.
Она отходила от этого непонятного, чужого для Ардни состояния постепенно, но отходила. Он с утра до вечера пропадал на строительстве внешнего ограждения, в виде высокого частокола, кроме этого ещё занимался кучей дел. Приходил к ней уж затемно уставший и она, всячески помогая скинуть заботы и тревоги, усталость и озлобленность, сама вылезала из той скорлупы отчуждённости, в которой прибывала всё последнее время, начиная с Сорок. Она вновь поверила в него и забыла наставления Хавки. Всё может быть и наладилось бы, но судьба настырно вновь и вновь окунала её в говно жизни. Сначала первое нападение речных артелей на их город. Хотя атаман после этого был весел и даже ликовал, обзывая их последними никчёмными словами, а как сгонял в осиротевшие баймаки, да кроме обычной наживы приволок горы золота, вообще пребывал в праздничном настроении целых три дня. Зорька же хоть и старалась мужу не показывать озабоченности и всячески старалась ему подыгрывать, всё же вновь призадумалась об охоте и охотниках на неё и её дочь. Для молодухи было ясно, как белый день, что это лишь первые цветочки, а будут и ягодки.
Второе нападение оказалось болезненным. Погибли первые пацаны атаманской ватаги. Это прочно забило ей в мозг мысль, что Хавка, как всегда права оказалась и что жить цветочком на полянке пора прекращать. Она уже собралась пройтись в гости к Хабарке, да прошвырнуться по бабам. Зорька ведь по сути дела сидела с ребёнком взаперти и до этого момента её вообще не интересовало, что там за стенами кибитки делается, а тут, как пробило. Нужно знать всё, что происходит вокруг, нужно знать всё, что происходит за кругом, наконец нужно знать, что происходит в стане охотников и вообще, кто на неё открыл охоту. Но все её планы сломал Ардни. Атаман в сомном угаре, с грохотом и звериным рычанием ввалился в кибитку. Зорька никогда раньше его таким не видела. Она впервые узрела его зверя воочию так близко и откровенно. Страх и ужас сковал и парализовал её. Ей хватила ума лишь одним глазком взглянуть на это из щёлки в занавеске и отпрянуть на лежак, схватив спящего ребёнка, прижимая девочку к себе и при этом закрывая ей ушки, чтоб звериный рык и грохот ломающегося стола, не разбудил её, но это не уберегло слух младенца. Девочка начала куксить, собираясь захныкать. Зорька быстро рванула платье, силой сунула ей сосок груди и опять зажала ей ушки. Та зачмокала, не открывая глаз. Молодуха вдруг поняла, что если он сейчас ворвётся, то просто оторвёт ей голову, а завтра скажет всем, что так и было. Хавкины предупреждения, как дубиной колотили по голове. Она взмолилась всем, кого вспомнила, но это не помогло. Стук сердца вдруг прервался, в груди разлился холод. Зорька почувствовала, как зверь прямиком направился к ней, как будто только вспомнив о её существовании. Она быстро, не помня себя, оторвала спящего ребёнка от соска, сунула его в изголовье к стенке и закрыла с головой одеялом. Раздался жуткий треск обрываемой занавески. Ужас сковал всё тело и мурашками побежал не только по коже, но и по всем внутренностям. В проёме стоял он, уставив на неё злобный звериный оскал, какой-то отвратительной нежити, с красными, налитыми кровью глазами. Она попыталась сесть, отстраниться от того места, где спрятала ребёнка, но тут же получила удар по лицу, не поняв даже, чем, от которого её голова с гулом ударилась затылком о лежак. На какое-то время она потеряла сознание, а когда стала приходить в себя, то почувствовала сначала боль в губах и носу и только потом то, что её насилуют. Он брал сильно, зверски, буквально вколачивая её при каждом толчке в лежак. Её ноги спускались на пол, и она как бы полулежала на краю. Зорька чувствовала, как ягодицы при каждом ударе врезались в острый край лежака, но ей тогда почему-то не было больно. Ей было только панически страшно, и она старалась во чтобы то не стало, терпя боль, всем своим видом показывать, что она уже умерла и дальше убивать её не надо. Но когда он перестал рычать и тяжело дыша отвалил, опять что-то круша ногами на своей половине и наконец, грузно и шумно упал, так, что вся кибитка ходуном заходила, на Зорьку напала странная апатия. Она тяжело заползла выше на лежак, подбирая ноги с пола и устраиваясь, отвернувшись к стене. В голове гулко звенела тупая боль. Она справилась с головокружением, оправила задранный подол платья. Приложила ладонь к разбитым губам. Потрогала расквашенный нос, который забился кровью и не дышал. Вспомнила о малютке. Быстрым движением откинула угол одеяла. Девочка не спала. С силой сжав губки, она смотрела на маму как-то не по-доброму, как загнанный в угол зверёк, но самое страшное во всей этой картине было то, что она молчала! Не издавала ни звука. Зорька расслабленно улыбнулась, вернее попыталась, так как тут же почувствовала боль разбитых губ.