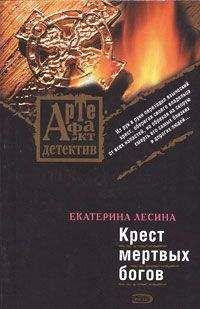отчего-то не греет их это ее никогда не остывающее намерение, они обижаются, вон даже меньшой нет-нет да и скажет:
— Ты цё, мамка, лезезь? Не месай… Я ить об зизни думаю, вот бы куда половцей плистлоиться, когда выласту. Не хоцу быть капустой, стоб каздый с глядки лвал…
Краснопеихе делалось страшно, в нескладных детских словах прочитывалось что-то упрямое, о чем, случалось, и Краснопей говорил, только в словах меньшого угадывалось еще и неприятие теперешней жизни, и глаза горели. Краснопеиха вздыхала тягостно, жаловалась соседке:
— Ой, оченьки, что же это такое? Чужие ребятишки-то, мамку родную в упор не узнают, а вели им свести батяню за тюремную огорожу, так и сведут, не задумавшись.
Но жаловалась нечасто, все больше держала при себе свое недоумение и досаду, не однажды порывалась сказать:
— Детки, что с вами творится, ответьте ради Христа?!..
Но так ничего и не сказала, было больно и тягостно, чувствовала, как что-то огромное, никакими словами не передаваемое, не имеющее обозначения в пространстве нависало над нею, над людьми ближними и дальними, и распоряжалось ими по своему усмотрению, меняло их совершенно, детей делало не похожими на родителей, отчуждало от старших. Вон как голь ее перекатную. Иль не слышала, как кричали неразумные, что никому не принадлежат и никого не пожалеют, встрянь кто против них… Может, и не совсем так кричали, но, если даже и не так, ничего не менялось, в сущности они уже были отодвинутыми от нее холодной, ни с чем не считающейся силой и не во власти Краснопеихи сопротивляться ей, всемогущей, привыкшей сознавать себя правой в своих деяниях, хотя бы и обрващенных не ко благу человека.
Чуть свет поднялась Краснопеиха, спешила, стараясь прибиться к рыбачьему берегу вовремя, не то бригадир начнет ворчать, смотреть косо. Впрочем, Евдокимыч редко сердился, но Краснопеиха все думала об этом и вздыхала, совестилась, что голь ее перекатная не оставит в покое двойнят бригадировых, нет-нет да и обидит, хотя и ругалась она и носилась за нею с голяком, все без пути!
Краснопеиха вышла во двор, накинув на плечи курмушку. С утра прохладно, ближе к осени подхолаживало, взялась за кривенькую скобу на калитке, но тут обернулась, глядь, муж на крыльцо выскочил в кальсонах, в ичигах на босу ногу, удивилась: любил поспать Краснопей, хлебом не корми, дай поутру понежиться в постели. Спросила:
— Чего не спится-то?
— А и сам не знаю, — отвечал Краснопей, почесывая в затылке. — Сон какой-то все мучает. Должно быть, вчера ты разбередила мне душу своими словами.
— А что было вчера?
— Тю, запамятовала! — обиделся Краснопей.
Да нет, не запамятовала… Сказывала Краснопеиха про сиянье, что беспокоило ее по ночам, а то и днем вдруг виделось, стоило закрыть глаза и подумать о чем-то неближнем, тревожном и горьком. Все-то зрилось, будто деревня на берегу Байкала, что приняла ее семью пущай и без ласки, однако ж и не со злобой, доживала последние дни, будто де заезжена она навроде лошади, что ходит по кругу, накручивая на ворот, слаба и ничего не умеет, как только это, но скоро и это ей окажется не под силу. Что тогда?.. И тут вставало перед голазами сиянье, большое, холодное, стылость от него и беспокойство честному люду, не однажды сказывали старики, что к беде сиянье-то. Видела Краснопеиха сиянье, и тревога упадала на сердце, и она не умела совладать с нею. Это раздражало мужа. Краснопей лишь по приезде в деревню понял, что рядом с ним не просто баба, покорная ему и согласная с его линией, а баба, что еще и думает о своем, и бывает, загрустит-запечалуется, да не потому, что у него на сердце тоскливо, а сама по себе. То и дивно. Не раз и не два он пробовал отучить ее от этого, по его мненью, чуждого женской сути, а может, и непотребного занятья, но ничего не вышло. Краснопеиха сказала:
— А ты, миленький, скоро же запамятовал, что баба и мужик — одного поля ягоды и жить им при полном равенстве интересов. Иль я чего-то не понимаю, иль это тоже на свалку выброшено? Так я пойду, поспрошаю у твоих товарищей, есть среди них, окромя дурнев, и с башкой которые, чего ни то подскажут…
Краснопей и отступил. Правду сказать, отступил еще и потому, что нраву он был не упрямого, его б воля, всем потакал бы в миру. Но об этом знал лишь он, и никто больше даже в деревне, думая про него, что он ничем не отличается от тех, кто крутит какие-то реформы, о чем мужики слышат каждодневно, однако ж не возьмут в ум, что это такое и пошто надо ломать людские судьбы. Впрочем, мужики понимали, что Краснопей все же не Револя, и часто подшучивали над ним. Однажды, к примеру, сказано было Краснопею:
— Приходи потемну к избе Дедыша, там мужики соберутся, скажешь им слово горячее. Чего ж!..
Ну, Краснопей и пришел, а на подворье и впрямь людей тьма тьмущая. Иль так показалось при тусклом свете костерка, разложенного чуть в стороне от избы? Он прислонился к бревенчатому углу, захотел послушать, о чем ведется беседа меж мужиков, но ничего не услышал, беседы-то не было, сидели люди, смотрели глазами холодными на яркие язычки пламени и молчали. Он удивился, заговорил, а те, близ костра, все равно молчат. Ну, подошел к ним, дотронулся до чьего-то плеча, никакого толку, тогда приблизился к другому, а потом к третьему… И тут открылась избяная дверь и на порожке вырос Дедыш, спросил, покашливая:
— Ты чего растолкался?..
Краснопей и сказал про людей, что на подворье, мол, всяк из них сидит и о чем-то думает, а меж собой они и слова не скажут. Пошто бы?..
Дедыш посмеялся, сказал, что это не люди, а коренья, из лесу привезенные.
— И верно, они нынче неживые, — помедлив, продолжал он. — Но я подправлю их и тогда они ладными станут, приглядными, и заговорят тогда…
Так все и было. Иль могли бы мужики вытворить что-то подобное с Револей, зная о его вредном характере?.. А вот Краснопея они не опасались, точно бы у него на лбу написано, что… пустомеля и безвреден, хотя и помешан на том же, на чем и Револя…
Позже Краснопей видел те коренья во дворе у Дедыша, видел, как старик управлялся с ними. После прикосновенья к кореньям то остро отточенным топором, то напильником, то буравом, менялось в них, словно бы они отодвигались от прежнего своего назначенья, которое было скорбно