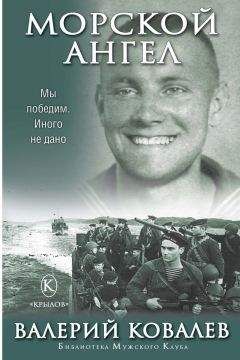стороны, приподнял руки.
— Ссышь, — глумливо ухмыльнулся первый, а в следующий миг ребром ладони Лосев перебил ему кадык.
— Ик-к, — выронив заточку, упал на спину и задергал ногами.
Развернувшись влево, Николай прыгнул на второго и, растопырив два пальца, саданул в глаза. Тишину разорвал истошный вопль. Обливаясь кровью, второй уголовник повалился на пол, где хрипел первый. Лосев стал молотить сапогами обоих по рёбрам.
— А-атставить! — до упора распахнулась дверь.
В камеру ворвалась охрана. Двое оттеснили Лосева к стене (тот не сопротивлялся), остальные, подобрав заточку, вытащили битых в коридор.
— В следующий раз присылайте кого покрепче! — крикнул Николай вслед.
Дверь с грохотом захлопнулась.
Утерев со лба пот и тяжело дыша, уселся на топчан. И помянул добрым словом Циркача. Был такой у него в 42-м в роте. В прошлом налётчик. Он-то и научил этим двум приемам. А ещё — ловко метать ножи и сапёрные лопатки. Погиб в одной из атак под Старым Осколом.
Ночь Лосев провел без сна, ожидая повторения, а под утро снова задремал. Сказалось нервное напряжение.
И опять ему снилась Москва, но уже летняя, в цветущих липах. И любимая девушка — Таня Малышева. Он был в воскресном увольнении, они ели мороженое в ЦПКО [89]. Потом катались на лодке и целовались.
На этом видение улетучилось. Долго лежал с открытыми глазами.
Где теперь Таня и что с ней, Николай не знал. Росли вместе (жили рядом), ходили в одну и ту же школу. Затем он поступил в военное училище, она — в институт иностранных языков. Последний раз встречались, когда выписался из госпиталя, в пустой квартире его родителей, перед отправкой на фронт. Была ночь любви с обещанием ждать, а утром Таня проводила суженого на вокзал.
С фронта Николай регулярно писал ей письма, получая ответы, а потом переписка оборвалась. Его треугольники возвращались с отметкой «адресат выбыл». Он допускал, что Таня с родителями могла эвакуироваться в Ашхабад (там у них были родственники), но не понимал, почему молчала. Затем пришла мысль, что девушка нашла другого и вышла за него замуж, чего он не мог простить.
После разговора с «кумом» и той злой ночи Лосев всерьёз задумался о побеге. Он понимал — кроме тех, что уже были, нажил новых смертельных врагов в лице лагерной администрации. И ждал дальнейших последствий. Но они не последовали.
На следующее утро Айдашев доложил Кутовому о чрезвычайном происшествии в штрафном изоляторе. При этом присутствовал и Серебрянский.
— Так, говоришь, одного убил, а второго покалечил? — пробрюзжал начальник.
— Именно, — кивнул старший лейтенант.
— А на хрена ты их к нему посылал? — нахмурился заместитель по режиму.
— Повоспитывать, — блудливо забегал глазами Айдашев.
— Ну, вот и повоспитывал. Как спишем?
— Возбужу уголовное дело об умышленном убийстве и причинении тяжких телесных повреждений.
— Точно, — ухмыльнулся Кутовой. — Получит, тварь, высшую меру и вопрос будет снят.
— Не согласен, — возразил Серебрянский. — Этот Лосев весьма авторитетный у фронтовиков. А их у нас, считай, батальон. Как бы не возникли беспорядки. Что тогда? — обвел взглядом собеседников.
Те напряглись. Оба помнили такие в 42-м на Воркуте, получившие название «Ретюнинский мятеж». Тогда были убиты более семидесяти охранников и повстанцев, пятьдесят участников приговорены к расстрелу. Этим всё не кончилось. Нагрянувшая комиссия из Москвы усмотрела в действиях местного лагерного начальства преступную халатность и ряд из них сами попали в лагеря.
— А что? Есть к тому предпосылки? — тревожно спросил Кутовой.
— Да. Мои «режимники» докладывают о нездоровых настроениях среди заключенных в зоне.
— Что конкретно?
— Они недовольны ухудшением питания, увеличением числа «придурков» из воровского окружения и начавшимися издевательствами со стороны блатных. Кстати, а ты почему молчишь? — покосился Серебрянский на Айдашева. — Или твои сексоты зря жрут хлеб?
— Что скажешь? — тяжело уставился на «кума» начальник. Ему всё это не нравилось.
— Я именно об этом хотел сегодня доложить, — Айдашев наморщил лоб.
— Слушаю.
— Такая информация действительно есть. Уже веду оперативную разработку [90].
— Срал я на твою разработку! — начальник налился краской. — Что конкретно предпринимаешь!?
Ответа не последовало.
— Значит так, — Кутовой выпучил рачьи глаза. — Этого Лосева пока не трогать. Разработку завтра же мне доложишь. И смотри, б… Ты меня знаешь! — постучал пальцем по крышке стола.
Серебрянский, наблюдая это картину, сидел с невозмутимым видом. Он был карьеристом и ненавидел Кутового, перебежавшего ему дорогу. Судьба Лосева была майору безразлична, а начальника он решил свалить. Наведя по своим каналам справки, заместитель узнал, что тот переведен сюда с понижением. Его уличили в служебных злоупотреблениях, пьянстве и мздоимстве. На новом месте Кутовой всё это продолжил, и майор собирал на подполковника досье. С Айдашевым столкнул умышленно, чтобы поссорить. Лосева же Серебрянский хотел заполучить в союзники. Пригодится.
Когда срок наказания истёк, Николай вернулся в лагерь. За это время там случились изменения. По указанию сверху нормы выработки увеличили, как и трудовой день. Теперь он длился одиннадцать часов. Усилился и режим. Все передвижения внутри зоны разрешались только строем во главе со старшим. На ночь двери бараков запирали.
— Такие вот у нас невеселые дела, — встретили Лосева в бригаде.
— Ну а ты как? Грев [91] получал? — взглянул на него Трибой.
— Получал, ребята, спасибо.
— Это все Шаман расстарался, — прогудел Громов.
— Да ладно, — махнул тот рукой. — Проехали.
Удэге же развернул укутанный в тряпье котелок, из-за голенища валенка достал ложку и протянул Лосеву:
— Кушай. Для тебя мал-мал подогрели.
— Слышь, Васёк, расскажи, какое ты письмо получил, — толкнул удэге в бок Трибой.
— Получил, — растянул в улыбке губы Василий. — От отца с Амура.
В январе его земляк Уйбаан освободился из лагеря и выполнил поручение.
— И что в письме? — с аппетитом хлебая баланду, спросил Лосев.
— Отец пишет, все живы-здоровы. Собаки тоже. Приедет весной на свиданку.
— Везучий ты человек, — вздохнул Шаман.
— А я вот своей отправил два письма — молчит.
— Ничего, будет и тебе, — заверил Василий.
— Точно знаю.