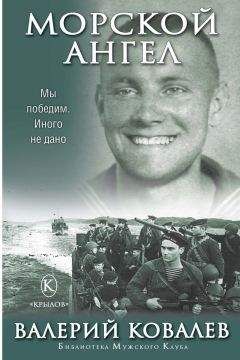из ворот, провожали бодрые звуки маршей из специально установленного репродуктора. Настроения они не поднимали, заключенные тихо матерились.
Не пришлось по душе Кутовому и наличие бывших фронтовиков на должностях лагерной обслуги. Они стали заменяться на других, которых пожелал хозяин. В этом деле ему изрядно помогал начальник оперчасти, по лагерному «кум» — старший лейтенант Айдашев. Был он из татар, скуластый и узкоглазый. Он стал проталкивать на должности своих сексотов [87]. Как следствие, в зоне снова начались злоупотребления, что в первую очередь сказалось на питании. Нормы выработки начали падать.
Спустя ещё месяц пригнали очередной этап, состоявший из уголовников и блатных. Те вновь стали поднимать головы. Бывшие фронтовики попытались разобраться, не тут-то было. На этот раз администрация приняла сторону «законников» и вмешалась.
В результате шестеро названных зачинщиками, в том числе Лосев, получили по пятнадцать суток ШИЗО, а ещё дюжину определили на месяц в БУР [88].
Перед этим у Лосева состоялся разговор с Кутовым в кабинете начальника, куда Николая доставили в наручниках. Теперь рядом с портретом Сталина на стене висел Берия, помещение было отделано шпоном. На полу — паркет с ковровой дорожкой.
— Ты что себе позволяешь, тварь?! — сразу же заорал фистулой начальник. — Если был любимцем у Дынина, тебе всё можно? Шалишь! — забегал по кабинету.
Заключенный стоял молча, играя желваками на щеках.
— Молчишь?! — остановился напротив. — Ну-ну! В таком разе посидишь в карцере, подумаешь! Увести! — затряс жирными щеками.
— На выход, — толкнул в плечо охранник.
Штрафной изолятор находился в одном из углов лагеря за глухим дощатым забором и являлся одним из немногих каменных зданий. В два этажа, с небольшими окошками без стекол, но с железными решетки.
Обыскав, Лосева поместили в одиночку. С грохотом закрылась дверь, провернулся ключ в замочной скважине, брякнул засов. Николай осмотрелся.
Камера размером три на три метра, с низким, в пятнах сырости потолком. На нём горела вполнакала лампочка. По углам иней, внизу на бетоне дощатый топчан. В левом переднем углу параша.
«Хорошо, хоть бушлат не отобрали, твари», — плотней запахнувшись, опустил на шапке уши. Вскоре стал донимать холод, Николай принялся ходить. Ночь провел в полудреме, несколько раз вставал, делая физзарядку. Помогало.
Утром получил штрафную пайку на сутки — триста грамм непропеченной черняшки, к ней кружку воды. На третий день впервые дали остывшую баланду из сечки с рыбными костями. А ночью снова открылась кормушка, на пол упал небольшой газетный свёрток. Кормушка тихо закрылась.
Лосев слез с топчана, поднял. Внутри свёртка была пайка «пятисотка», сверху — тонкая пластина сала, щепоть махорки и несколько спичек с кусочком тёрки.
«Не иначе от ребят», — мелькнуло в голове, и на душе потеплело. Жадно сжевал хлеб с бациллой (так звалось на местном жаргоне сало), оторвал газеты на закрутку, соорудил козью ножку, чиркнув спичкой, с наслаждением закурил.
— М-м-м, — почувствовал, как закружилась голова. Напивался теплым дымом, пока не прижег пальцы. Оставшееся растер в них, встав, выбросил за окошко. Аккуратно завернув в газетный лист оставшуюся махорку и три спички с теркой, спрятал в потайной карман ватных брюк. Такая посылка приходила каждые три дня, немного подкрепляя силы.
Время тянулось вязко и неторопливо. Чтобы согреться, Николай часами шагал по камере и читал про себя стихи. Он их любил с детства, особенно Лермонтова и Пушкина.
«Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»
— в такт шагам возникали в голове строки.
На десятый день, вечером в замке провернулся ключ, отодвинулся засов, дверь отворилась.
— На выход! — приказал охранник.
Заложив руки за спину, вышел в тускло освещенный коридор. Цербер сопроводил в отдельное помещение без окон. Здесь топилась печка, за столом сидел оперуполномоченный Айдашев в шерстяном кителе и белых с отворотами бурках на ногах. На круглой голове черный ежик волос, нос приплюснут, глаза словно два буравчика.
— Присаживайся, — кивнул на привинченную в центре табуретку. — Выглядишь неважно, — ухмыльнулся, когда заключенный сел.
Лосев молчал, впитывая идущее тепло от печки. Ждал, что будет дальше.
— Ты хоть в прошлом майор и командовал батальоном, а дурак, — скривил губы старший лейтенант.
— Почему? — приподнял голову Лосев.
— Мог бы жить тут припеваючи, стать лагерным старостой. А вместо этого попёрся в бригадиры. Теперь эта новая разборка с блатными. Для чего? Ищешь справедливость? Здесь её нет. Опять же хозяин положил на тебя глаз. А это чревато. Ты знаешь, откуда он тут взялся?
— Нет.
— Был начальником Особого лагеря под Магаданом. В нём содержатся каторжане из политических. Многих заморил, как мух. Такая же участь ждёт и тебя, убогий. Очень ты ему не понравился. Сам сказал. Но я могу помочь.
— Это как? — криво улыбнулся Лосев.
— Дашь подписку о сотрудничестве и будешь на меня работать. В этом случае гарантирую жизнь.
— Да пошел ты, — нахмурился. — Лучше подохну.
— Ну как знаешь, — поскучнел «кум» и вызвал охрану.
Лосева сопроводили в камеру, за спиной грохнула дверь.
«Чем хотел купить, подлец», — Николай заходил по камере, успокаиваясь, а затем, подняв воротник бушлата, прилёг на топчан, подогнул ноги и задремал.
Очнулся от чувства опасности. Его приобрёл на фронте, там не раз спасало. Прислушался. В коридоре шоркали шаги, смолкли у его двери. Затем она тихо отворилась, внутрь скользнули двое.
Николай быстро спрыгнул с топчана.
— Ну что, фраер, пришёл твой конец, — ощерился гнилыми зубами первый «гость», выхватив из-за голенища сапога заточку, а второй стал заходить сбоку.
— В чем дело, ребята? — сделал испуганное лицо Лосев и, чуть разведя в