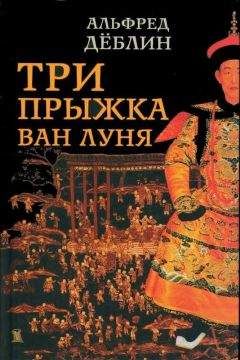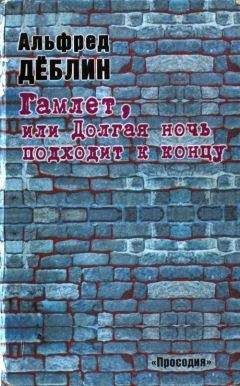Ма Ноу шагал по дороге к подножию затененного листвой холма. Широкой ладонью разгонял клочья серой пелены, еще висевшие в небе; с торжественной невозмутимостью парили над его головой белые лебеди света.
Как же вдруг начал сотрясаться Женский холм!
Тысячекратный вопль качнулся над долиной и полетел назад, отброшенный другими холмами.
И раз десять повторилось кошмарное: звериное рычание, треск раздираемой ткани, рев — смешанные с обезумевшими высокими голосами.
Ослепленные страхом тени метались, пытаясь вырваться из-под кроны катальпы, — а их рывками возвращали назад.
Как после этого минутного неистовства рассыпались, цепляясь за гребни кустарника, тряпичные — белые и цветные — комки, как они упали в мох, как беззвучно покатились вниз по склону!
На холме воцарилась странная тишина: прерываемая долгими скандирующими стонами, кошачьим душераздирающим визгом, музыкой задыхающегося бессилия, которое кусает себе пальцы, от которого сердца съеживаются, будто их окунули в уксус, а отчаяние становится одержимостью, заставляющей тела биться в корчах.
И потом гулкие мужские голоса в долине: «Ма Ноу, Ма Ноу, дракон летит! Ма Ноу, там ведь наши сестры!»
Внизу, на узкой дороге к лагерю, бушевала толпа; братья прислушивались к тому, что делается на холме, переглядывались; затыкали уши, били себя кулаками в грудь. Над головой Ма Ноу что-то взорвалось. Когда люди окружили его, ему показалось (больше, чем на мгновение), будто сам он — Владыка Преисподней с сотней рук, плетей, змей; и будто он гонит охваченные лихорадочным возбуждением души меж стен Ледяного Ада, к ненасытной Непреодолимой Реке, гонит от всех зеркально-гладких стен[120]; они хрипели и скалились, он же переполнялся радостью, размахивал чашей-черепом. От этой картины, внезапно надвинувшейся на него, кровь стыла в жилах. Но уже мазнуло кистью, смоченной Слабостью, по всей внутренней поверхности его головы. Почти теряя сознание, падая, он все-таки успел осознать, что с ним происходит, охнул, чудом удержал равновесие, выпрямился.
С холодным огнем в глазах оглянулся вокруг. Ощутил: толчок, с которым сверкающее сознание собственной власти выскочило из него, стукнулось о землю, бросило назад холодный взгляд.
«Так нужно. Я беру это на себя».
И два глубоких вздоха. Он, все еще оглушенный, обернулся; долина цвела как прежде. Он с затаенным страхом понял, что нечто неведомое вышло из него — и одержало над ним верх. И — что он победил Ван Луня. Одурманивающий ужас медленно вливался в костный мозг.
В зарослях мисканта лежат смущенные братья. Слабые мольбы о помощи с Женского холма. Ма Ноу увлек свою паству на ложный путь.
С пустым, ничего не видящим взором брел Ма Ноу, переступая через тела, отворачивая лицо.
Они вжимались своей плотью в землю. Холм потрескивал — напротив, против них.
Неподвижность, много часов подряд; освящаемая солнцем глушь. Из хижин на Женском холме неслышно выползали умиротворенные вздохи, просачивались в щели между досками, завивались колечками: словно дым, или заблудившийся взгляд, или замирающий звук гонга под лиственной крышей.
Когда солнце стало светить горячее, в долине, перед хижиной Ма Ноу, загудели раковины-трубы, пятью пять раз, с перерывами: сигнал к общему сбору.
Листья травы качнулись, стебли сдвинулись, и выгнулись дугой спины, показались головы.
На Женском холме еще долго ничто не шевелилось. Но потом и там меж деревьями замелькали белые, цветные пятнышки. И началось: мельтешение черных мужских силуэтов, перемешивание красок, взлетающие над шумовым потоком брызги — шорохов, фраз, возгласов. Пестро одетые сестры спускались с холма в обнимку, братья — плечом к плечу. Ликующее светоносное облако нисходило в долину.
В мгновение ока сестры — смеющиеся, с пружинистыми движениями — рассеялись между благочестивыми братьями, широким полукружием заполнили пространство, в котором еще пронзали воздух обугленные мачты священного корабля. Ма Ноу, в сернисто-желтом и красном, быстро и твердо прошел в середину взволнованной толпы, вобравшей в себя всех.
Он не поморщился, когда, начатая неизвестно кем и подхваченная многими женскими голосами, звонко и сладостно полилась над цветущим полем «Песня радости»: та всем хорошо известная песня, которую поют нежные обитательницы «расписных домов», зазывая гостей на свои украшенные резьбой лодки.
Ма Ноу заговорил: «Между нами, дорогие братья и сестры, должен царить мир. И пусть ничто не обременяет нас, ибо мы плывем к Золотым островам[121]. Мы хотим восстановить древний союз инь и ян. Я счастлив, что вы прислушались к моим словам, и не забуду об этом, даже если мне удастся овладеть Пятью Драгоценностями. Мы останемся поистине слабыми. Мы будем следовать Дао, прислушиваться к нему. Неустанно молитесь, и тогда обретете великую магическую силу, которая вас не покинет. Не мастерите понапрасну, как делал старик из Лу[122], деревянных коней, начиненных металлическими пружинами, чтобы ездить на них верхом или запрягать в повозки. Таких коней вы не сотворите из своих душ — душ, которые живут в ваших легких, в вашей бурлящей крови, в ваших мягко вибрирующих кишках[123]. Вам достаточно будет заиграть, выйдя в поле, на флейте — и потеплеет воздух, и пробьются ростки зерна. А еще вы сможете, дуя в тростниковую трубочку, приманить тучи к северо-западу — и выпадут дожди, и возникнут тайфуны. Восемь скакунов уже стоят наготове, шестнадцать остановок делает на своем пути Солнце: придет день, когда вы отправитесь вслед за ним, верхом на этих скакунах[124].
Оставайтесь бедными, но будьте радостными, не лишайте себя ни одного из земных удовольствий, чтобы вы не тосковали по ним и чтобы дух ваш не становился нечистым и тяжелым. Вас, сестер моих, вижу я здесь: вас, цариц нежных наслаждений; вы много сделали для того, чтобы наша жизнь стала такой, какова она ныне. Вы не допустили, чтобы сердца наши обратились своими отверстиями к пустому межмирному пространству. Я был плохим сыном восемнадцати провинций, когда доверился мудрости чуждого нам Шакьямуни и променял на его Небеса Блаженства ваши — наши — цветущие небеса. Мы уже взошли на первую ступень лестницы, ведущей к Западному Раю. И то, что вы, расколотые дыни, подарили нам, мы с благодарностью принимаем. Мы благодарны вам, очень благодарны. Отныне я буду называть вас, и себя в том числе, „расколотыми дынями“. Все мы. живущие у болота Далоу, будем называть себя так».
Сотрясающие воздух возгласы ликования и — хлопки, земные поклоны, объятия. Люди плотным кольцом окружили Ма Ноу, не замечая его загадочно равнодушного лица. Слова выходили из него подобно голосу птицы, спрятавшейся в развалинах храма. Его лицо приняло сходство с ликом крылатого зверя, чья голова, глаза, перья в полете непрерывно меняются под воздействием ветра[125]; когда же он опускается на ветку дерева, черты его становятся неразличимыми: потому что нет уже ни ветра, ни полета.
ОКОЛО ПОЛУДНЯ.
Они разошлись: растерянные, серьезные, радостные, осмелевшие, слепые, слабые; сильные мужчины, легконогие танцовщицы, вдохновенные пророки.
Вечером впервые соединились в единый круг все палатки и хижины. Братья и сестры молились вместе, и их молитвы переплетались во мраке. Не как пути мотыльков, порхающих над травой, но как две нити, которые тянутся вверх, потом запутываются и делаются непригодными для ткачества. Никто не хотел отпустить руку сестры или брата, в темноте влажные ладони тянулись одна к другой, скользили по возбужденно вздрагивающим лицам. Всякая гордость уже была сломлена, всякое беспокойство улеглось. Те, что прежде прямо и непоколебимо несли свое достоинство «поистине слабых», теперь клонились под бременем счастья; летний ветер бился словно полотнище знамени, воткнутого в землю на одном из привалов по пути к Куньлуню. Как же в темных хижинах под катальпами смягчились лица, как глубоко взрыхлила и души, и тела та мощная борона, что прокатилась над всей землей, обрабатывая ниву ночи!
В болоте Далоу росли лотосы: кожистые, величиной с тарелку зеленые листья почти сплошь покрывали неподвижную поверхность воды, между ними выныривали крупные красные цветы; длинные стебли с прожильчатыми листьями цеплялись за гниющие ракушки; и с каждого свисали мочала тех тонких водорослей, которые на глубине спрессовывались в растительный войлок; скромно склонялись зеленые, с нежным пушком, головки бутонов. Непроницаемо-загадочным было болото, над ним поднимались в воздух тяжелые испарения.
Та ночь все-таки не обошлась без ужасного несчастья. Несколько человек услышали, как среди полной тишины отчаянно бранится Полуночник. Сперва они не особенно встревожились, решив, что он сражается с одной из своих теней. Однако крики не прекращались, и кому-то из тех, кто выскочил на улицу, показалось странным, что Полуночник не бродит, как обычно, но все время кричит с одного и того же места на Мужском холме. Они испугались: а вдруг он действительно настиг свою тень; видеть такой поединок им не хотелось. Но в конце концов эти пятеро озабоченно переглянулись, набрались мужества и, прихватив фонари, побежали через поле и дальше, вверх по склону холма. Когда они добрались до места, откуда доносились крики, Полуночник лежал в траве, а под ним — мужчина, который не шевелился и над распухшим лицом которого Полуночник размахивал мечом. Он звал недвижимого по имени, подносил к его уху зеркальце. Подбежавшие братья наклонились над телом, посветили в выпученные глаза. Это оказался давешний отчаявшийся юноша — он повесился на дереве. Полуночник случайно наткнулся на труп и спустил его на землю. Один из братьев взял острый камень, сделал надрез на своей руке, капнул в стиснутый рот юноши — после того, как двое других с трудом разжали ему челюсти — горячую кровь[126]. Однако ничто уже не могло помочь: тело давно окоченело. Юноша знал, что ему не придется долго разыскивать ту, которую звали Цзэ, Персиковый Цветок. Однажды вечером, когда он вернулся вместе с ней в лагерь и остановился перед ее хижиной, молодые люди серьезно взглянули друг на друга; зрачки их раскосых глаз расширились, но оба сохраняли спокойствие и, постояв немного, разошлись. Когда началось неслыханное, юноша, чтобы ничего не слышать, забился в заросли мисканта; после всего он, шатаясь, поднялся на Мужской холм, встретил Полуночника и сказал ему, что хочет поспать под деревом. Но не лег спать, а повесился на своем кушаке.