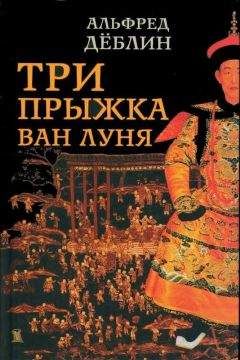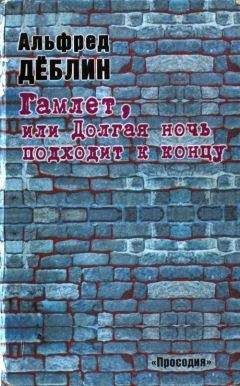Та ночь все-таки не обошлась без ужасного несчастья. Несколько человек услышали, как среди полной тишины отчаянно бранится Полуночник. Сперва они не особенно встревожились, решив, что он сражается с одной из своих теней. Однако крики не прекращались, и кому-то из тех, кто выскочил на улицу, показалось странным, что Полуночник не бродит, как обычно, но все время кричит с одного и того же места на Мужском холме. Они испугались: а вдруг он действительно настиг свою тень; видеть такой поединок им не хотелось. Но в конце концов эти пятеро озабоченно переглянулись, набрались мужества и, прихватив фонари, побежали через поле и дальше, вверх по склону холма. Когда они добрались до места, откуда доносились крики, Полуночник лежал в траве, а под ним — мужчина, который не шевелился и над распухшим лицом которого Полуночник размахивал мечом. Он звал недвижимого по имени, подносил к его уху зеркальце. Подбежавшие братья наклонились над телом, посветили в выпученные глаза. Это оказался давешний отчаявшийся юноша — он повесился на дереве. Полуночник случайно наткнулся на труп и спустил его на землю. Один из братьев взял острый камень, сделал надрез на своей руке, капнул в стиснутый рот юноши — после того, как двое других с трудом разжали ему челюсти — горячую кровь[126]. Однако ничто уже не могло помочь: тело давно окоченело. Юноша знал, что ему не придется долго разыскивать ту, которую звали Цзэ, Персиковый Цветок. Однажды вечером, когда он вернулся вместе с ней в лагерь и остановился перед ее хижиной, молодые люди серьезно взглянули друг на друга; зрачки их раскосых глаз расширились, но оба сохраняли спокойствие и, постояв немного, разошлись. Когда началось неслыханное, юноша, чтобы ничего не слышать, забился в заросли мисканта; после всего он, шатаясь, поднялся на Мужской холм, встретил Полуночника и сказал ему, что хочет поспать под деревом. Но не лег спать, а повесился на своем кушаке.
Он не достиг Вершины Царственной) Великолепия; он выбрал для себя другой путь.
ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ
к ним пришел Ван Лунь.
Ма Ноу долго раздумывал, хорошо ли будет, если он сам расскажет Вану о переменах в жизни отряда. И в конце концов послал пятерых гонцов, которые должны были сообщить Ван Луню, находившемуся от лагеря на расстоянии полутора дней пешего хода, всё, что они знали. Ма пригласил на совет нескольких опытных братьев и попытался осторожно выведать их мнение о случившемся. Но ему не удалось навести их на мысль, что Ван может не одобрить изменение драгоценных принципов. Они-то быстро прониклись сознанием святости новых идей; им казалось, достаточно будет просто поговорить с Ваном, чтобы убедить его, а потом — уже с его помощью — обратить в новую веру и все другие отряды «поистине слабых». От Вана, которого никто из них не видел, исходило столь сильное влияние, что они ни за что не решились бы замышлять что-то против этого человека. Они верили, что, выступая против него, готовили бы собственную погибель. Ма Ноу намекнул своим собеседникам, что они и сами пользуются немалым авторитетом у «расколотых дынь», однако из-за его нерешительности они даже не поняли, к чему он клонит; по-настоящему ему так и не удалось привлечь их на свою сторону.
Ван Лунь не нуждался в той информации, которую принесли гонцы; слухи о происшедшем дошли до него раньше. Но, как бы то ни было, он прибыл вместе с гонцами в лагерь Ма. Когда ночью два брата проводили его к хижине Ма Ноу, освещая дорогу фонариками, он, едва переступив через порог, махнул рукой, отсылая прочь молодую женщину, сидевшую на циновке. Ма взял ее за руку, сам отвел в соседнюю хижину и лишь потом вернулся.
Крошечный светильник горел на полу; справа от входа, у стены низкой, едва достигавшей высоты человеческого роста, комнаты валялся мешок с соломой, рядом — какие-то лохмотья, платки, халат. К левой стене была придвинута опрокинутая тележка; на ней неустойчиво балансировали, как казалось при скудном освещении, золотые будды; тысячерукая хрустальная Гуаньинь лежала головой к стене, ее мягкое, уже поцарапанное лицо касалось занозистого столба.
Когда Ма вернулся, Ван Лунь сидел на краю тележки и смотрел на пламя светильника. Только сейчас священнослужитель со страхом обнаружил, что у Вана имеется большой боевой меч, который он держит обеими руками, уперев в пол. Ван Лунь постарел; его взгляд был неподвижным. Он потирал колено, а когда позже поднялся, Ма увидел, что его друг хромает на левую ногу.
Сын рыбака из Хуньганцуни невнятно пробормотал, что на той стороне реки Хутохэ его заметили упражнявшиеся солдаты; ему пришлось переплыть реку и, вылезая на скалистый берег, он повредил колено. В действительности все было не совсем так: он и вправду разодрал колено, спасаясь от солдат; но худшее ранение навлек на себя сам, когда уже приближался к заболоченной местности. По дороге ему повстречались приверженцы Ма Ноу, в компании с несколькими девушками; ни один из них его не узнал. Разговорившись с ними, Ван услышал, что эти люди называют себя «расколотыми дынями»; с нарастающим раздражением он задавал все новые вопросы, когда же огорченные его реакцией братья хотели продолжить путь, набросился на них с кулаками, а девушек разогнал. На крики о помощи из бамбуковой рощи вышел крестьянин и издали запустил в Вана здоровенным корнем, чуть не раздробив ему колено, которое и без того болело. Крестьянин, правда, тут же обратился в бегство, ибо заметил меч и подумал, что ранил императорского солдата: на Ване была синяя куртка с красными отворотами, которую ему подарил солдат, дезертировавший из роты, где раньше служил Го.
Ван, неподвижно сидя на перевернутой тачке, спросил Ма Ноу, не преследуют ли солдаты и его людей. Ма, увидев черные кровяные пятна на штанине Вана, хотел принести ему воды и целительного порошка; но Ван лишь отрицательно мотнул головой, а когда вновь заговорил, сказал, что нет большой разницы, от кого страдают братья и сестры: от даотаев ли, или еще от кого. А чего ждал Ма Ноу? Судьба — она жесткая, ее так просто не согнешь. Хорошо, конечно, учить братьев не противиться ходу вещей; но сие не значит, что позволительно самому разыгрывать из себя судьбу и ожидать от других — братьев и сестер — покорности такой судьбе. Те, что поверят, будто в итоге останутся целы, могут совершить тяжкие ошибки. Да они даже наверняка совершат ошибки, которые обойдутся куда дороже, чем разбитое в кровь колено.
Ма Ноу, сидевший на циновке, слушал его, не поднимая глаз. И видел — того неотесанного крестьянского парня, который однажды зимой, у перевала Наньгу, впервые переступил порог его хижины; парень попросил милостыню и потом никак не хотел уходить, а все задавал вопросы о золотых божках.
Его переполняла горячая любовь к другу, и он хотел поддаться тому ощущению, которым отзывался в нем грубый, но до боли знакомый шаньдунский выговор Вана: «Наконец!»; однако Ма не двинулся с места, а продолжал размышлять и даже не удивлялся тому, что в голову ему приходят подобные мысли.
Я очень изменился, думал Ма Ноу. Немеряно велики просторы восемнадцати провинций с их долами и горами, ключ к Западному Раю — в моих руках; Ван Лунь и я должны мирно разойтись.
Вслух он сказал, что Ван Лунь отсутствовал слишком долго; покровительство «Белого Лотоса» для них, конечно же, важно, но еще важнее — и наверняка труднее — повседневное руководство братьями и сестрами. Пусть Ван не обижается, но правила придумывать легко — хоть в каких количествах; однако оказалось, что те правила, которые действовали в горах Наньгу, при всей их полезности не совсем согласуются с новыми условиями; их пришлось поменять, но Ван сам может убедиться в том, что люди, в сущности, остались такими же, какими были на утесах Шэнъи. Ван Лунь имеет репутацию достигшего просветления святого; ему негоже на них гневаться.
Ма Ноу и сам не понимал, что побудило его оскорбить Вана, назвав «святым». Он, однако, не скрыл от себя, что смаковал это словцо как сладкий финик — и проглотил с холодным удовлетворением.
Ван с болью поднялся на ноги; ковырял острием меча мох. В такое он бы ни за что не поверил, в такое — нет. Этот человек, похоже, хочет его унизить.
Он, страдая, опустился на циновку рядом с Ма; священнослужитель, как бы нехотя, закатал ему штанину, принес кувшин с водой и кусок полотна, промыл рану.
Ван наблюдал за ним: «Ма, помнишь, как мы когда-то болтали у перевала Наньгу; неужто это и в самом деле были мы — ты и я? Ты тогда жил на склоне, чуть выше мельницы-толчеи. Мы ведь дружили?»
«Мы оттуда спустились в поля и леса Чжили, Ван. Тысячи людей из всех городов, областей, округов присоединились к нам, чтобы отведать нашей свободы, нашей подлинной независимости. Нам приходилось открывать двери тюрем — с помощью хитрости, подкупов, обмана, — чтобы освобождать наших братьев. Ни один из них не примкнул бы к нам и вся наша работа пошла бы прахом, если бы мы строили другую тюрьму — из старых засохших слов, из слишком жестких правил. Не может быть, чтобы твое намерение состояло в этом. А даже если и так, оно бы изменилось после того, как ты вместе с нами прошел бы весь путь от Наньгу до болота Далоу».