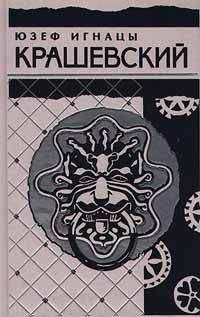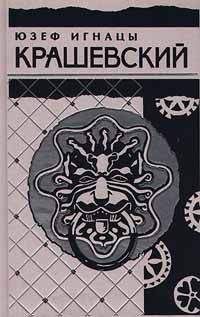Отец святой, не нужно спать!
Сказав это, он закрыл уста и замолчал.
– Не лжёшь? – спросил Иво сурово.
– Святой отец, я проклятый грешник, лгу иногда людям на огорчение, себе – на жалкую радость, но как бы я мог лгать перед вами, что читаете во мне и вытащили бы из меня, если бы даже внутри правду скрыл? Говорю правду: знаются отец с сыном. Яшка послал отец! Не нужно спать!
– То, что сказал, – отозвался епископ серьёзно, – этого не говори людям, не носи по рынку!
– Но вам, отец святой, – сказал Хебда, наклоняясь к его ногам, – как мне не сказать? Я носил эту змею за пазухой, она кусала меня, я искал вас, только что нашёл.
Он кивнул головой.
– О, я, глупый человек, хуже скотины, святой отец, – говорил он дальше, – ничего не знаю, темным-темно, потом меня поражают великие яркости и вижу далеко! Далеко! Через людей и стены, и сквозь леса. В чём я виновен! Доля моя!
Епископ, выслушв его, начал креститься.
– Ежели в тебе нечистая сила гостит, – пусть выйдет из тебя! Молись, молись!
Хебда, сложив спокойно руки, громко начал читать «Отче наш», как бы в доказательство, что этой силы не имеет в себе. Перекрестился и остановился.
Вдруг он поднял голову, обратил её вверх, зажмурил глаза и стал смотреть в облака.
– Цыц! – сказал он. – Цыц! Вороны кричат, будет кровь…
Сам король воронов полки собирает на добычу.
Иво, перекрестившись ещё раз, медленным шагом пошёл к дому, Хебда его не оставлял. Как только заметил, что епископ отдаляется, поспешил за ним.
– Святой отец, – начал он снова, – тут каждый третий человек – предатель… иду я иногда по дороге, улице, смотрю… Тот, кто чистый, он светится, как факел, тот, кто предатель, он чёрный, как уголь, а сердце его в середине горит красным цветом. Считаю, считаю, не могу предателей сосчитать.
– Кого они должны предать? – послушно с состраданием спросил Иво.
– Разве я знаю? – сказал Хебда. – Это только Богу известно. Но предатели… Марек Воевода – предатель, Яшко – предатель, их приятели – чёрные, кони – чёрные… всё чёрное… Я порой вижу это, а порой не вижу ничего.
– Молись! – сказал епископ.
– Иногда молюсь, аж плачу кровью и плюю кровью, и стенаю кровью, – говорил Хебда, – а иногда мой рот зарастает, грудь сдавливается, сердце замерзает – и не могу…
С великим состраданием Иво, повернувшись к нему, шептал молитву, которую Хебда слушал, сложив руки. Шли снова дальше.
Но уже двор епископа был на виду, нищий, может, больше боясь людей у замковых ворот, начал отступать, и шёл за ним в некотором отдалении.
У ворот новая толпа нищих ждала возвращающегося пастыря, а, увидев его, весь этот сброд начал стонать и молиться, и петь самыми удивительными голосами, самыми нестройными. Служба хотела отогнать, но епископ дал знак… оставили их в покое.
Хебда несмело вошёл со своим проводником прямо в ворота, за порог, и вскоре вышел обратно, покрытый старой епанчой, которую, развесив широко на плечах, гордо надувшись, шёл так потешно, что стоны нищих перешли в смех.
Эти голоса словно сделали Хебду ещё более гордым, он поднял вверх голову и крикнул:
– Прочь с дороги, когда пан идёт! Голыши! Вон, стервецы смердящие… Я сегодня пан!
Он сам рассмеялся, посмотрел на епанчу и поплёлся, выкручивая палкой обороты.
Дома ждал брата Валигура, одетый сегодня совсем иначе, чем когда выехал из Белой Горы. На нём было длинное платье, обрамлённое мехом, блестящих ремень с мечом у пояса, колпак в руке и башмаки с острыми задранными вверх носами, какие в то время носили все около двора и в городе.
Глядящим на него издалека он невольно внушал уважение и какой-то страх. Кто бы о нём не знал, что был тем славным силачом, прочитал бы по его лицу, что муж был неустрашимый и большого сердца… Так же как перед святостью взора брата его, Иво, тревожились нечистые сердца, перед силой его чистого взгляда смущались более слабые люди.
Он также стоял среди собравшихся духовных и светских лиц, которые ожидали епископа, отдельно, сам к ним не спеша, а другие к нему – не осмеливаясь…
Иво, увидев его, скоро к нему приблизился с великой любовью. Он обнял его, указывая ему каморку, в которой привык молиться и принимать близких, а тем временем начал приветствовать своих гостей.
Мшщуй ждал его терпеливо… Аудиенция, однако же, не продолжалась слишком долго; Иво, сняв с плеч плащик, поспешил к брату.
– Я возвращаюсь из замка, нужно поклониться князю, – сказал он. – Он знает о тебе…
Мшщуй только ударил рукой по широкой груди.
– После этого – в дорогу, милый брат, – сказал епископ, – очень необходимо ясно видеть…
Он беспокойно прошёлся по каморке.
– Ты знаешь, – сказал он, – когда Бог милостив, тёмные дают свет, безумные дают разумные советы. По дороге я нашёл нищего, того несчастного Хебду. Он сказал мне, что своими глазами видел, как Марек отправил сына… Значит, замышляют предательство. Куда его послал? Ясная вещь, на тот двор, в котором он сам имел опеку, к Генриху. Туда нужно ехать и узнать правду.
– Ты не мог мне выбрать более отвратительного болота, чтобы погрузиться в него, чем эта лужа немчизны, – отпарировал горячо Валигура. – От самой мысли душа содрогается.
– Брат! Брат! Не богохульствуй, – сказал епископ. – Двор немецкий, это правда, но люди набожные, в их сердцах живёт Бог, святая женщина, её достойный муж…
– А всё-таки на Краков шёл! – сказал Мшщуй.
– Это ничего, грех его стёрся, – сказал живо епископ, – а верь мне, труднее из греха встать, чем остаться в добродетели… Самую дорогую овечку, что от отары отбилась и заблудилась, сам Христос берёт на плечи. Генрих дал обмануть себя уговорам Марка – людской порок, но он опомнился и исправился – это ангельская…
– Жена и он ведут немцев на Силезию… нашим там нельзя показывать носа, я своим языком не поговорю с ними, а скорее он у меня отсохнет, чем осквернит себя немецким.
– Брат! – воскликнул Иво. – Это грех.
Мшщуй замолчал и нахмурился.
– От этого не исправлюсь, – пробормотал он.
– С князем Генрихом поговоришь, с сыном его любимым, что то же имя носит, и с его польским двором, легко придёшь к согласию, а этой святой кающейся княгини, наверно, тебе не придётся увидеть, потому что она с мужем не живёт и в Тжебнице сидит…
Мшщуй молчал уже, не переча.
– Сделай охотную жертву, – прибавил Иво. – Сердце моё тревожится! Наяву и во сне вижу я подстерегающих этого доброго пана, который ничего не