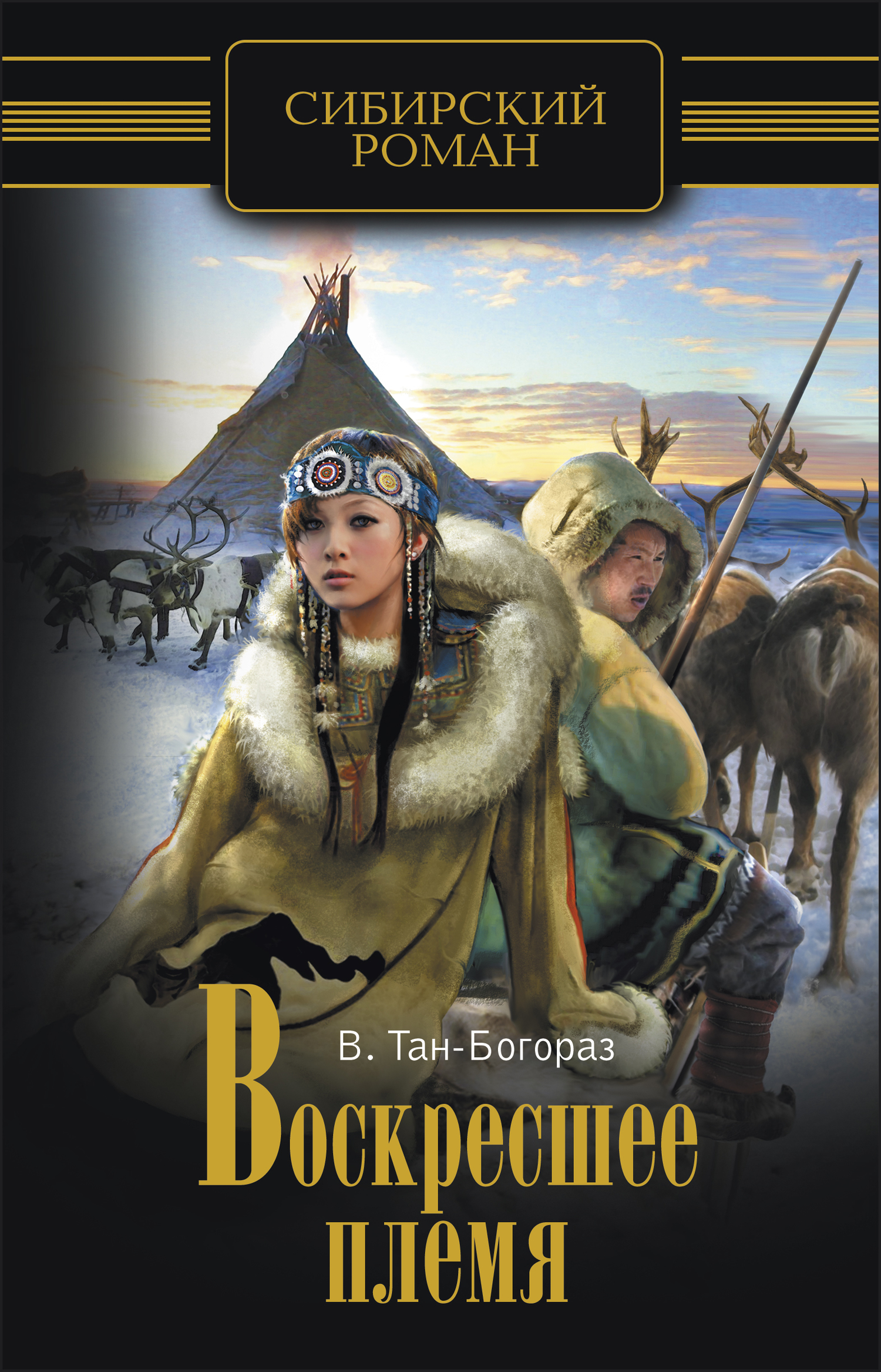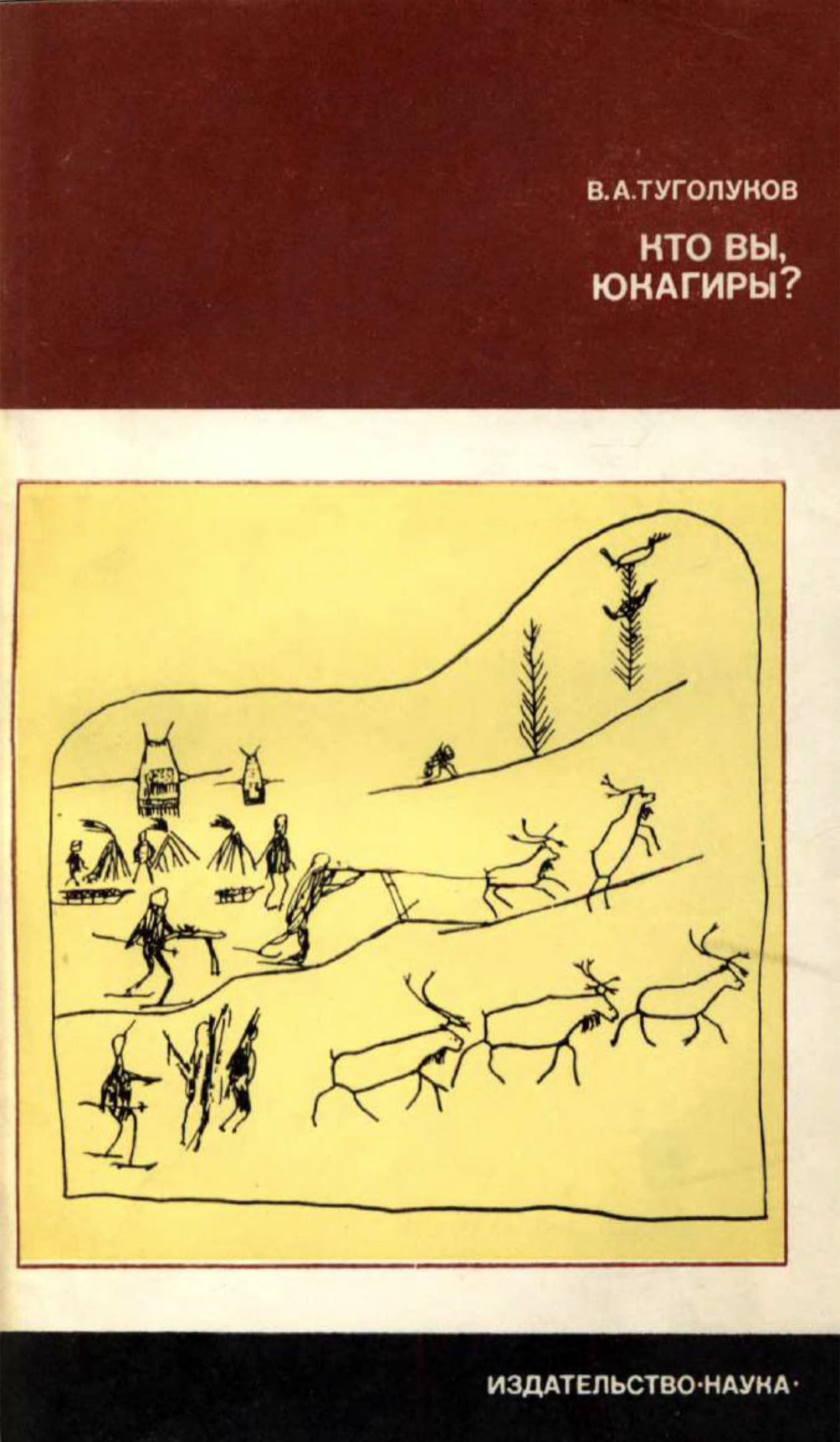окраинам. Они первобытнее и несравненно малочисленное своих ближайших соседей: коми-зырян, якутов и бурятов. С незапамятных времен живут они рыболовством и охотой, отчасти оленеводством, не зная земледелия и разведения рогатого скота. Еще до появления казаков они были оттеснены в глубь тайги, отчасти уже истреблены. Но жестокость Ермака и Семена Дежнева, Михаила Стадухина и Петра Атласова и других завоевателей Сибири приложила к их истреблению свою беспощадную руку, вооруженную «огненным боем», фитильною пищалью, кремневым ружьем. Русские торговцы споили их водкой, наградили их наследственным сифилисом. Царская война и белая разруха привели их разрозненные клочья на край гибели.
В советскую эпоху они стали оживать для жизни, для гражданственности, для новой социалистической стройки. Прежде всего на местах завелись школы, быстро наполнившиеся учениками. Самые активные из них устремились в местные столицы — Хабаровск, Новосибирск, а потом и в центральные столицы: Москву, Ленинград, — учиться, сравняться с ушедшими вперед, догнать русских, украинцев и другие, более счастливые народности!..
А пока, в настоящую минуту, эти восемнадцать юношей, которые ехали в Москву и Ленинград усвоить основы советской культуры и потом принести ее своим соплеменникам, эти восемнадцать северных пионеров-разведчиков чувствовали себя сиротливо и жутко. Они жались в своем углу вагона, подавленные впечатлениями. По-русски они почти не говорили, да если иные и знали язык, то их северное русское наречие с множеством туземных слов и оборотов было непонятно другим пассажирам вагона. Больше всего их угнетала эта бегущая повозка на колесах, целый караван бегущих телег, которые мчатся вперед днем, и вечером, и в полночь, и в зыбком рассвете. Где-нибудь остановятся на малое время и опять летят дальше. Почти все они, эти северные странники, до того времени никогда не видели самой простой, обыкновенной телеги, не знали даже колеса. И единственное прозвище, которое они могли дать железнодорожному вагону во всем разнообразии своих языков, было: «сани на катках», «нарта на круглых полозьях».
В качестве единственного наблюдателя и хранителя с северянами ехал русский студент-рабфаковец, тоже направлявшийся в Москву. Но ему было не до них. Это и для него была первая далекая поездка по железной дороге в неведомую зауральскую Русь, дорожных условий он тоже не знал, и северные юноши были предоставлены сами себе.
На остановках постоянно случались маленькие трагедии. Северные странники сперва боялись выходить из вагона, но сидеть безвыходно в этой крытой повозке им было невмоготу. И уже после первого полудня на каждой остановке они спускались вниз и выпрыгивали на волю, как засидевшиеся зайцы или кролики. И при каждой отправке в путь кто-нибудь непременно отставал и тотчас же пускался бежать сбоку поезда, бросался на лету на подножку, даже на буфер. У каждого из них было такое чувство, что отстать от своих и остаться в человеческом потоке, в неизвестной стране — все равно что выброситься в океане с бегущей байдары и остаться в воде на произвол ветра и волн.
Два раза совсем отставали сперва нивх-гиляк, потом — ительмен-камчадал, но товарищи, даже не обращаясь к поездному начальству, оба раза поднимали такой визг и вой, что его слышал машинист и собственной властью замедлял ход. Весь состав поезда и пассажиры знали о диковинных студентах-первобытниках, ехавших на запад. Гольд-нанаи из Хабаровского округа, который вначале задавал форсу своей близостью к столице Дальнего Востока и мнимым знанием городского обихода, ужасно оскандалился. Он ухитрился потерять из бумажника все свои деньги, документы и, разумеется, также железнодорожный билет.
При первой проверке контролер хотел его объявить безбилетным пассажиром, но товарищи опять-таки подняли вой, и начальство отступилось. Документы, конечно, можно было восстановить, но дорожные деньги пропали безнадежно. Пришлось для растеряхи сделать сбор с других по рублю, по полтиннику. Держать свои дорожные деньги и документы вместе, у общего старосты, они не могли. Пожалуй, такой временный староста мог бы при случае потерять все сразу.
Их донимала и мучила также непривычная пища. Во Владивостоке и Хабаровске их кормили хотя не особенно важно, но там была постоянно горячая похлебка и в ней кусочек мяса. Северные юноши всю свою жизнь питались мясом и рыбою. От хлеба и каши у них пучило живот и делалась отрыжка. Здесь, в дороге, пришлось отказаться от горячей похлебки и перейти на хлеб и овощи, холодный вареный картофель, огурцы, лук.
Особенно для коряков это было непривычно и странно. Вся эта растительная пища на их языке называлась общим именем: «трава», «травяное питание». И один из них не вытерпел и возопил:
— Что я вам — корова, что вы кормите меня полевыми корешками, мне непривычными?
— А может, привыкнешь, — сказал другой коряк, настроенный более оптимистически.
— Ну да, привыкнешь, — сердито возразил пессимист. — Скорее подохну… А ежели привыкну и вернусь домой, то придется отвыкать, — прибавил он рассудительно — Где я возьму там такое: хлеб, корешки?..
Это было уже проявление встречной критики, направленной на старые условия жизни.
День, пятидневка, декада… Вагоны летели на запад, отмеривая километры десяток за десятком.
— Куда они торопятся, зачем? — спрашивали странники друг у друга. И тут они стали понимать, что чем дальше на запад, тем жизнь бежит все торопливее.
Даже притаившийся одун вспомнил Лукошкина с его постоянными темпами. Но темпы на Родыме были только на словах. Время на Родыме не имело ценности. Здесь же все говорило о пропущенных минутах, летело вперед, стараясь нагнать и наверстать потерянное.
Кендык первое время действительно сидел совершенно тихо и судорожно сжимал на груди кожаный мешочек, где были спрятаны деньги и документы, и самое ценное — послание Лукошкина. Он постепенно привык его считать каким-то талисманом, который в тяжелую минуту все объяснит и даст спасение.
Кстати сказать, такие бумаги и письма были не у одного Кендыка, а также и у многих других. Новые советские работники на Севере относились к уезжающим юношам с особенным вниманием, трогательным и даже сентиментальным. Некоторые юноши, побойчее, сочиняли послания сами и везли их с собой на предмет предъявления новым властям и учителям в далеком Ленинграде.
Уже в самом конце путешествия один из бурятских эвенков, сидевший с Кендыком на одной скамейке, показал ему под страшным секретом письмо, саморучно написанное им на имя директора Института народов Севера. Письмо это не было отправлено. Эвенк вез его с собой в виде своеобразной авторекомендации. Письмо называлось: «Резолюция студента Обуглеева Бурятской республики, эвенкской народности, на имя директора Института народов Севера…»: «Первым долгом, я прошу принять от меня огнерасплавленный привет и очень большую благодарность за то, что вы меня