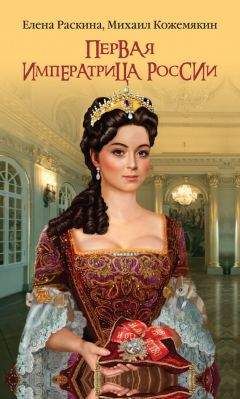— Господин фельдмаршал, эта девушка, к которой вы изволили обратиться, совсем особенное творение Божье, — горячо и от этого не совсем складно заговорил полковник. — Я хотел доложить вашей милости о ней…
— Знаю, это приемная дочь здешнего священника Глюка, — проворчал Шереметев. — Поведай, Ян Владиславович, чем же это «особенное творение» так приворожило сначала здешнего попа, а ныне и моего полковника!
Вадбольский заметил иронию и счел нужным пояснить:
— Борис Петрович, она жена шведского солдата. Речь не об амурных искушениях, а об ее уме и крепости духа, равные которым и в мужах не всегда найдешь. Она знает малороссийскую и польскую речь, она вела со мной негоциации со стены от имени шведского коменданта. Явила подлинное великодушие и весьма разумные суждения.
— Вот оно как, — заинтересовался Борис Петрович. — Значит, этот боров не только взрыв арсенала злодейский учинил, но и за бабьей юбкой хоронился! Нечего сказать, рыцарский у шведов обычай…
— Эта необычная особа сумела узнать об умысле шведских офицеров поднять на воздух арсенал, — продолжал Вадбольский, уже не скрывая восхищения. — Она бежала предупредить нас, и лишь нескольких минут недостало мне и одному достойному шведскому лейтенанту, чтоб предотвратить злодейство…
— Что предложить желаешь, господин полковник? — прервал его Шереметев. Он и сам уже знал, что делать, но хотел, чтобы приближенные офицеры услыхали это из уст Вадбольского, которого в войске любили за прямоту суждений и искренность души.
— Яви же милосердие, достойное славы твоей, Борис Петрович! — полковник перешел на торжественный стиль. — Прими это несчастное и дивное создание под свою покровительственную руку! Будь ей защитой и отцом! Мне, полковнику, как и любому из офицеров, не пристало в походе иметь при себе женщину, но ты волен в войске нашем над всеми. Твои добродетельность и благородство ведомы каждому солдату. Спаси эту девушку, отец наш! Ты же видишь — она чуть жива.
— Мужика-то ее, я чаю, ухлопали твои молодцы? — предусмотрительно понизил голос Шереметев.
— Не могу знать, — развел руками Вадбольский.
— Ладно, Ян Владиславович, твоя взяла! — согласился Шереметев. — Авось пригодится эта многоязыкая! Коли вовсе языка от горя не порешилась… Прокормлю небось! Приму покуда девку к себе на квартиру, там поглядим, что делать. И не благодари, господин полковник, недосуг.
Вадбольский только чеканно щелкнул каблуками и тихо отошел в сторону. Шереметев вновь наклонился над Мартой, положил на ее растрепанную головку свою широкую длань и проговорил почти ласково:
— Поживешь покуда у меня, печальница. Не бойся, там тебе покойно будет: я дед уже, и Порфирич, оруженосец мой, не моложе. Богородица милостива, авось сыщется в мире твоя дорожка, дева мариенбургская!
Марта подняла на него измученное лицо, на котором слезы проложили светлые дорожки среди копоти и пыли. Фельдмаршалу показалось — она слегка улыбнулась. Не жалкой благодарной улыбкой беззащитного существа, нашедшего себе пристанище, а как равная — равному. Даже неловко стало. И ни слова не сказала.
Денщик Порфирич, многолетний товарищ и слуга в кочевой судьбе Бориса Петровича, умел понимать его волю без лишних приказов. Боярину воеводских и державных дел достанет, нечего ему время свое на бестолковство холопское тратить. Ровесник своего господина, состоявший при нем с детства и получивший вольную еще двадцать лет назад, когда бились с тамбовскими полками против татар, Порфирич служил Шереметеву по глубокой привязанности и по привычке. Поди пойми, чего больше! Слуга понимал повеления хозяина без слов. Всего один раз обернулся Борис Петрович, направляясь с офицерами к мариенбургским стенам, и то потому, что дело было уж больно новое. Сметливый денщик прекрасно управился с новой фельдмаршальской заботой.
— А ну-ка вставай, девонька! По-нашему ты понимаешь, сказывают, — приговаривал старый слуга, ловко подхватив Марту под мышки и с неожиданной силой поставив на ноги. — Идти-то сама сможешь? Не похоже. Вот незадача… Эй, ребятушки, вон ты и ты, конопатый! Живо взяли, подняли и понесли! Да осторожней вы, рекрутчина деревенская, это вам не тюки с песком на шанцах таскать! А ты, красавица, не думай, они тебя не уронят. Я им, тетка их козлятина, уроню! Сейчас мы тебя, дитятко, на лодочку, да и на квартиру фельдмаршальскую отвезем, в слободку здешнюю. Избушка у нас чистая, светлая… Я тебе на поварне постелю, поспишь вволюшку, болезная. Сам-то я в сенях, видно, лягу. Эх, Борис Петрович, не жалуешь ты слугу верного — снова бока-то старые на лавке отлеживать!
Под добродушное ворчание слуги Марта мягко раскачивалась на солдатских плечах. Парни ловко переплели руки, образовав подобие живого кресла, в котором было удобно даже ее разбитому контузией и усталостью телу. От мундиров вражеских солдат пахло так же, как от Йохана в ту ночь, когда он прискакал в Мариенбург с поля боя с остатками своей роты… У них были такие же давно не стриженные мягкие волосы, такие же крепкие плечи и такие же дерзкие и немного грустные глаза, как у него. Марта сомкнула глаза, и бред или сон милосердно послал ее измученному сознанию видение, будто это ее Йохан несет ее на руках через зеркальную гладь озера Алуксне — прочь от родного Мариенбурга, лежащего в руинах…
Глава 15
В ЛАГЕРЕ МОСКОВИТОВ
Марта проснулась только на следующее утро, уже засветло, и не сразу поняла, почему над ней закопченный бревенчатый потолок крестьянского дома. Откуда здесь вместо дыма пожарищ, пороховой гари и тошнотного смрада гниющей крови пахнет свежевыпеченным хлебом? Да еще воняет перекисшей капустой! Потом пришло осознание новых, грозных перемен в ее жизни, но девушка не почувствовала ни страха, ни растерянности. «Йохан, Йохан, ты научил меня смелости, — грустно улыбнулась она. — А ты, отец, отдал мне по наследству только одно богатство — мужество!» Все ее тело болело от ушибов, ссадины противно ныли и подтягивали кожу, но мышцы приобрели прежнюю упругость, и в душе была решимость. Марта встала со своего скромного ложа, устроенного прямо на деревянном сундуке, в котором хранилась кухонная утварь, и принялась за беглый осмотр «фельдмаршальской роскоши». Этот странный старик Шереметис или, скорее, его слуга с трудно произносимым именем, позаботился о ней.
Пара нижних рубах из небеленого крестьянского полотна, несколько пар пестрых шерстяных чулок с затейливым рисунком, грубое домотканое платье и передник были, вероятно, любезно уступлены хозяйкой дома, если только ее еще раньше не выдул из родных стен свинцовый ветер войны. А вот этот старый, стираный платок, украшенный линялым рисунком из райских птиц и диковинных цветов, был явно нездешнего происхождения. Наверно, он раньше напоминал какому-нибудь русскому солдату о далекой «зазнобушке», пока не был пожертвован для новой постоялицы «батюшки Борис Петровича». Как и солдатский кафтан из грубошерстного сукна — его Марте надлежало использовать в качестве верхней одежды. Он один из всех вещей показался девушке не лишенным некоторой новизны и вызова.
В углу стояла внушительных размеров бадья, наполненная холодной водой. Вероятно, неприхотливый Шереметис пользовался ею в качестве ванны, а теперь галантно предлагал своей покрытой грязью и пылью гостье. Этот жест Марта оценила. Московский полководец, вчерашнюю встречу с которым она восстанавливала, с трудом складывая осколки памяти, пока вызывал уважение и интерес. Девушка без сожаления сняла свое пропахшую гарью рваную одежду, всю в пятнах засохшей крови, скомкала и швырнула в угол. От всей прежней жизни ей оставались только изящные башмачки из козловой кожи и маленький католический крестик на цепочке. Предварительно заперев дверь ухватом, Марта с наслаждением залезла в воду и с каким-то ожесточением вымылась начисто, словно смывая с себя ужас прошлых дней. Затем нашла старый деревянный гребень, тщательно расчесала влажные волосы, убрала их под платок, оделась, мысленно прочитала про себя «Отче наш» и «Богородице, Дева» и смело шагнула навстречу судьбе — через порог в горницу.
Шереметис, разумеется, в почти полуденный час отсутствовал на квартире. За дощатым столом сидел его денщик и сосредоточенно чинил прохудившиеся барские подштанники. Он улыбнулся Марте широкой добродушной улыбкой, очень напомнившей ей дядюшку Яниса, так ждавшего этих московитов и так страшно погибшего в Мариенбурге. Потому она поздоровалась с ним, как прежде с Янисом, только не по-латышски, а на певучем украинском языке:
— Будьте здоровы, дядечка!
При солнечном свете, проникавшем в избу через распахнутое окно, она могла рассмотреть его. Старый слуга был невысок, чрезвычайно широк в плечах и в кости, длиннорук, широколиц и круглоголов. Он носил длинные солдатские усы, а начинающую лысеть полуседую голову стриг коротко, как и его господин. Под жестким ежиком проступало несколько больших и малых шрамов, а на правой руке недоставало полтора пальца, как часто бывает после сабельного удара по кисти. Впрочем, ловко орудовать иглой это увечье Порфиричу явно не мешало.