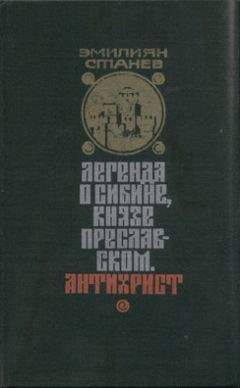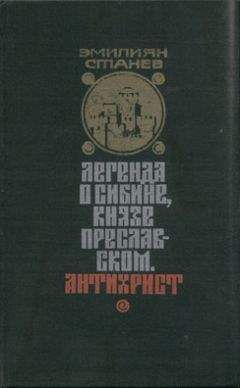Был это тот самый турок, которого стерег я в тырновградском узилище, а ныне большой начальник в конном санджаке. Стал я его рабом. Но позже один из ещё более важных начальников в агарянской пехоте, Шеремет-бег, весельчак, тайно потягивавший вино, отобрал меня у Халил-аги, чтобы ловил я ему рыбу и веселил его. На ночь меня сажали на цепь, а днем я неотлучно находился при своем господине, чтобы исполнять его повеления.
Собрал Баязид не только анатолийские войска свои, но и христианских вассалов из западных земель — ты видел их, то были греки, сербы и наши соплеменники. Стыдясь нас, рабов, они выдавали себя за турок и свирепствовали пуще агарян. Вассальные войска эти вперемешку с другим войском шли по землям, завоеванным Амуратом, и нигде не встречали отпора.
Найду ли я слова, чтобы выразить противоречивые мысли свои и чувства, когда вновь увидал я стены и башни родного города, на которых развевались знамена? Зубцы их почернели от народа, забравшегося туда, чтобы увидеть приближение агарян. Апрельские облачка белыми тенями лежали над Янтрой, тревожный перезвон колоколов и клепал вселял в душу трепет и страх. Остервенело жаждущие добычи, скакали спахии на низкорослых своих лошаденках, лавиной наползала пехота, развевались бунчуки, били барабаны — подобно реке в половодье, султанские войска заливали все возвышенности и, как орлы-стервятники, нависли над престольным градом. Отряды юруков со своими верблюдами заняли вершины холмов, военачальники и паши разместились в окрестных монастырях. И, глядя на это нашествие, я думал о том — кто же я? Гонимое чадо осужденных, блудный сын их, искавший разумного Бога и обманутый дьяволом? Либо раскаявшийся еретик, потрясенный разгромом своего народа, поздно вразумленный несчастьями? Поруганного, полоненного, кто наказал меня ещё и этим — вынудил смотреть на разорение сие? О, страшное и коварное царство духа! О, святое позорище духовной нашей трапезы, столь богатой всевозможными отравами! Не было ли ты закатом перед наступлением тьмы? Ты ждало, чтобы варвары угасили свет твой и затоптали алтарь нечистыми ногами! Гордым, неприступным и запертым на все засовы казался Тырновград, словно самое небо бессильно было сломить его. Там жили престарелая матушка моя и сестра, давно забывшие о радужных днях моего детства…
Агаряне возвели деревянные минареты, муллы славили Аллаха и пророка его, а в Тырновграде клепала и колокола звали к христианской молитве. Молились два народа, две веры и воители их, каждые — своему богу, стадами устремлялись нечестивые к Янтре и там преклоняли колена. Скажи, учитель, безумен ли человек в своих порывах к высшему? Он ли безумен или высшее?
Девина крепость оборонялась отчаянно, но когда обрушилась башня, и увидели защитники её, что спасения нет, то ударили в барабаны и вместе с собаками, что стерегли крепость по ночам, вышли против агарян и пали все до единого. Молился я за души их и думал: «Спаси их, Господи, а меня порази, ибо не понимаю я, в чем состоит твоя правда». Вечером, когда вносил я в игуменские покои монастыря святого Николы мех с монастырским вином, Шеремет-бег сказал мне: «Ты, говорят, монахом был, должен знать вашего кешиш-башию. Евтимием звать его. Начальником крепости он. Что понимает поп в воинском деле?» Подивился я, что обитатель горнего Иерусалима может размахивать мечом и сеять смерть.
Наливались кровью зеленые глаза моего господина, когда пьянел он, обливалось потом широкоскулое лицо. От него узнавал я о происходящем, ибо турки не стесняются при рабах и слугах толковать о военных и государственных делах. Он говорил, что ты ободрял защитников Асеновых ворот, где каждодневно велись бои и оборонялись всего упорнее, а река запружена связанными бревнами. С высоты видел я во внутреннем городе толпы беженцев, среди них и монахов, удравших из занятых турками монастырей, скотину, выпряженные телеги, слышал шум на торжище и возле церквей, где толпился народ. Когда варвары шли на приступ, поднимался переполох. Стенобитные машины засыпали стены камнями, тучами летели стрелы, клубилась пыль. Так прошло несколько дней, пока не разнесся слух, что на Тырновград идет Баязид с новой ратью. Паши отправились в Ореховицу встречать его, взяв с собой множество рабов. Выстроившись по обе стороны дороги, мы поверглись ниц, когда вдали показался султан на вороном арабском скакуне. Возле него волчками вертелись дервиши, впереди бежали несчетные рабы. И покоритель проехал — низкорослый, нос крючком, с рыжей, коротко подстриженной бородой. Позади него развевалось знамя пророка, ехали янычары и спахии.
Расположился Баязид в огромном своем шатре над Кселифором, ибо земля там плодородна, есть тень и много воды, и призвал пашей на совет. День спустя агаряне замахали белым флагом перед посадом чужеземцев. Трубачи затрубили в трубы, потянулось султаново посольство. Баязид обещал, если город сдастся, сохранить горожанам жизнь и достояние, но, как во времена Амурата, он оставит в нем войско. Султан торопился к Никополю, опасаясь, что Шишман вступит в союз с влахами и мадьярами, не хотелось ему мешкать в Тырновграде. Почему, владыко, не принял ты условие его, дабы уберечь народ от плена и истребления? Почему не воздал кесарево варвару и не положился на промысел божий? Непобедима ведь правда божья и не по божьему ли попущению стояли агаряне у стен престольного града?.. На мощи ли надеялся ты или на то, что подойдет с большою ратью царь?.. Народ защищал ты либо же горний Иерусалим и церковь твою? Агаряне сказали, что отверг ты предложение султанова посольства, в котором участвовали болгарские вассалы и сын сербского деспота. И когда посланцы с белым флагом вышли из посада иноземцев, агаряне завопили, ибо стало ясно, что предложение отвергнуто. Баязид приказал взять посад иноземцев приступом, и на другое утро приступ начался. Двинулась пехота — кто с мечом, кто с луком, кто с копьем, а были и просто с дубинами. Связали вместе лодки, чтобы сделать для янычар мост, подтащили на буйволах осадные машины. Заголосили муллы, забили барабаны, а из Тырновграда понесся тревожный гул клепал и колоколов. Южные ворота раскрылись, на помощь посаду бросился отряд. Баязид со своими пашами стоял на берегу и наблюдал за штурмом. Со стены Царева города наблюдал и ты со своими военачальниками. Мы, рабы, тоже видели сверху, что происходит. После полудня агаряне пробили стену, и защитники посада отступили за южные ворота, унося раненых к башне Балдуина. Многие пали на поле брани, а тысяченачальник Аса, сын кира Мизы, принявший в крещении имя Ангела, которого я позже убил по приказу Шеремет-бега, попал в плен.
Осада затянулась, и Баязид гневался. Многие из его пашей выступили на Никополь, и я с радостью видел, как уползает султаново воинство по ущелью Янтры. Однако ж малочисленны были защитники Тырновграда, хоть монахи и горожане бились плечом к плечу с воинами, и агаряне не нуждались во многих полчищах для продолжения осады. И, глядя на то, как всякий поганец помышляет не о сохранении жизни своей, а лишь о том, как лучше исполнить повеление султана, я понимал, отчего гибнут христианские царства. У нас на каждом шагу либо царь сидит, либо самовластный деспот, либо болярин, и все помышляют единственно о собственном благе.
Мне приходилось быть веселым, турки не любят печалящихся, да и клейменное лицо мое в грусти выглядело ещё смешнее, и чауши Шеремет-бега толкали меня в спину и покатывались со смеху. И поскольку не оставалось мне ничего другого, я притворялся полупомешанным, чтобы обмануть их, рассеять недоверие. Ранним утром я приносил моему господину свежей воды умыться. Шеремет-бег опускался на колени, подымал большие пальцы и, поворотившись на юг, отбивал поклоны. После молитвы я подавал ему еду, натягивал на него сапоги и помогал навертеть на голову огромную чалму, пока он смотрелся в клинок своей дамасской сабли. Заслышав звук трубы, он вскакивал на коня, и я подавал ему барабан, который он приторачивал к седлу.
Однажды утром он сказал мне: «Слышно ль тебе, гяур, кукареканье ваших петухов? Ни одного петуха не слыхать, только скотина мычит. Даже петухи уразумели, что ожидает вас. Посмотрим, долго ли ещё ваш поп будет удерживать город!» И впрямь больше не пели петухи в Тырновграде. Ночью, лежа во дворе монастыря на соломе, раскиданной и потоптанной лошадьми, видел я унылые огни в осажденном городе, догоравшие агарянские костры, слышал знакомый плеск Янтры, вой собак и зов труб при смене караульных. То донесется далекий, неясный возглас, стон ли, проклятье ли — не разобрать, поднимется крик — кто кричит, почему? — неизвестно. Судил я тебя, светило тырновское, и тебя, город, где, неразумные, обезобразили вы лицо моё, воспоминания жгли сердце, тосковавшее по былому, терзавшееся отчаянием. Оно рождало месть, и рука тянулась к ножу. Днем солнце пекло, предвещая засуху. Вечером барабаны собирали отряды под знамена, раздавались команды, вновь зажигались костры, и в отблесках их видел я сверканье копий, кривых сабель, ятаганов и мечей. Из-за куска пестрой материи или платья вспыхивали драки, каждый оборванец из пехоты жаждал принарядиться. Награбленные церковные чаши служили им для питья и умывания, рясы и облачения священнослужителей из окрестных монастырей — постелью или лошадиными попонами.