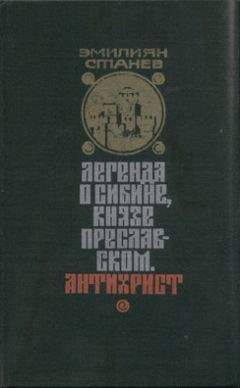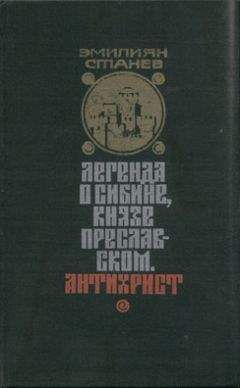Однако ж те в синклите, кто предпочел открыть ворота, чтобы сохранить земную свою жизнь и богатства, имели на своей стороне свойственника Шишмана, примикюра Ангела. И, вступив с варварами в тайные переговоры и получив от них лживые заверения, они увлекли за собой народ, также не имевший охоты гибнуть, — и народ открыл южные ворота крепости…
Ц
С древних времен по день нынешний да и в грядущие времена кто только не возносил и не будет возносить хвалу поработителям и завоевателям? Их именуют великими за пролитую по воле их кровь и за великое зло, причиненное ими, с помощью мертвецов сих лгут живущим и учат злу, побуждая человека подражать им, сиречь насиловать брата своего, убивать, грабить, жечь и разрушать. Подобие божье, неразумнее ты тварей бессловесных, но кичишься разумом! Как и они, звероподобен ты, не ведаешь, что творишь, злобу чтишь, а правду ищешь… И я, страстно алкавший святости и мнивший, что понимаю тайну божью, убивал своих и чужих, и в тот день снова обагрил руки кровью…
Когда ворота Царева города отворились и на башне зареял белый флаг, агаряне в один голос возопили от радости и забили в барабаны. Первыми вошли в город янычары, за ними паши с султановым сыном Сулейманом. Мы, рабы, смотрели сверху, как иные из защитников крепости устремляются к царскому дворцу, другие повергаются ниц перед варварами. Все выглядело мирно, словно свои входили к своим. Но продолжалось недолго — покуда агарянское войско не заняло башни и бойницы. Через царские врата потянулись к Асенову городу вереницы изнуренных голодом женщин, стариков, мужчин и детей, и к вечеру в крепости осталось малое число жителей — вельможи, священнослужители и боляре. Сулейман расположился в царском дворце, мой господин в доме протовестиария, бежавшего вместе с Шишманом. Тебя со всем клиром изгнали из патриарших палат, и начались грабежи и насилия.
Когда смерклось, прискакал за мной в монастырь чауш и увез меня верхом — Шеремет-бег повелел мне немедленно явиться к нему. Мы пробирались через своры озверелых псов, пожиравших человечье мясо, вдыхали запах пожарищ и зловонье мертвечины. Обращенные в рабство валялись на улицах и во дворах, а орлы расположились на ночевку на стенах Трапезицы. Стрекотали кузнечики, Янтра шумела всё так же, но мертв был престольный град, точно убитый великан, и минувшее витало над ним. Когда я глядел на темнеющие опаловые небеса, проколотые звездами, и на страшную, безмолвную громаду Царева города, где ныне властвовали завоеватели, казалось мне, что обрушилось нечто великое и таинственное, а на его место пришло другое, неведомое, но столь же таинственное и враждебное, что всегда существовало и будет существовать в наших сновиденьях и мечтах. Стража впустила нас через северные ворота, и по улочке, ведущей к царскому дворцу, добрались мы до дома протовестиария. Я вошел в огромную с белыми оштукатуренными стенами светлицу, ещё хранившую чистый, христианский дух её обитателей, и увидел Шеремет-бега, окруженного десятоначальниками и сотниками, принесшими сюда ту долю добычи, что полагалась султану. Турок принимал золото и серебро, сорванное с иконостасов и алтарей, кольца, украшения. Он сидел на лавке под разграбленным киотом; иконы из него были свалены за дверью. По причине варварского невежества своего никто из агарян не умел ни читать, ни считать, посему составлять опись награбленного велено было мне.
Пьян был Шеремет-бег, омерзительно весел, упоен победой и сверканьем золота. Алчно блестели глаза у него и у военачальников. Подбрасывая в ладони какой-то убор и словно бы лаская его, он приказал мне сесть по левую руку, между ним и грудами золота и серебра, и записывать каждую драгоценность в отдельности.
Тут пожаловал примикюр Ангел. Он просил о встрече с султановым сыном, но оттуда был препровожден к Шеремет-бегу, приказавшему ввести его. Я увидев пожилого человека с орлиным носом, в синей далматике с серебряным шитьем по вороту и царскими гербами, вид измученный, под глазами — темные круги. Печальными и будто мертвыми были глаза его. Длинные волосы, густые и волнистые, словно вытекавшие из обтянутого шелком клобука, соединялись с волнистой, коротко подстриженной бородой. Было видно, что он растерян, испуган и не чает, как бы поскорей убраться отсюда.
Смиренно встал вельможа перед Шеремет-бегом, а тот развалился на лавке и даже пальца не поднес к чалме, чтобы ответить на приветствие. С низким поклоном несчастный сказал: «Пришел я, твоя светлость, получить награду за труды свои, обещанную мне его султанским величеством», и произнесши эти слова, покорно скрестил большие белые руки в точечках веснушек. Глаза его коснулись золота на лавке, губы пересохли.
Шеремет-бег знаком велел мне перевести, и я перевел сказанное вельможей. Свечи горели словно вкруг усопшего, по стенам и резному потолку плясали легкие тени, прожужжала и ударилась об окно муха. Агаряне молчали, ожидая, что ответит бег. А тот, усмехаясь злой усмешкой и поглаживая бороду, о которой очень заботился, сощурил глаза и сказал: «Твоя светлость доводится царю родней? Что скажет твой царь, узнав, что побудило тебя помочь падишаху? Вознаградит ли тебя?» Примикюр молчал — только белые его пальцы забегали по рукавам далматики. А Шеремет-бег продолжал: «Но падишах, да живет он тысячу лег, справедлив и щедр. Коль награда обещана тебе, ты её получишь». — Он хлопнул в ладоши и тотчас один из военачальников подал ему кошель из сафьяна. Шеремет-бег тряхнул кошель, раздался звон золота. «Получай, — говорит. — Это твоё. Но награда наградой, а дело совершил ты гнусное». Зеленые глаза бега таращились и блестели, как стеклянные. Он взглянул на меня и засмеялся ледяным смехом. «Скажи, — говорит, — резал ты когда свиней? Если нет, сейчас зарежешь. Вы, как дервиши наши, только и умеете, что писало в руках держать, да с джиннами знаться. Поглядим, годен ли ты ещё на что-нибудь. Зайди этому псу за спину и всади ему под лопатку нож, чтобы правоверным рук не пачкать». Вынул из-за пояса кинжал и незаметно передал мне. Я встал, а несчастный, видать, почуял, что замышляется против него неладное, взглянул на меня и глупо усмехнулся потешному лицу моему. Тут Шеремет-бег бросил ему кошель, и он принялся кланяться. Я стиснул кинжал, рука моя взмокла и ослабела. Черная злоба к мучителю — пьяному бегу, к агарянам и окаянному этому царскому свойственнику — охмелила меня, глаза точно застлало туманом и дымом. Ударил я несчастного под левую лопатку, и кинжал вошел в него по самую рукоять. Он не понял даже, что произошло, только успел издать стон и рухнул навзничь, а вместе с ним упала мне в ноги и тень его. Ахнула погань нечестивая, схватилась за бороды; Шеремет-бег изумленно поглядел на меня: «Умеешь, — говорит, — ножом действовать, гяур! Где ты этому выучился, бездельник?» Я ответил, что вышло случайно, возненавидел, мол, человека этого и потому не дрогнула рука…
Шеремет-бег приказал унести мертвое тело, кошель с золотом взял себе, а двое варваров затеяли спор из-за платья убитого, поскольку было оно дорогое, из златотканой материи.
Руки и ноги у меня дрожали, но я притворялся спокойным, будто и не слышу происходящего вокруг. Той ночью во многих домах болгары оборонялись, кое-где запылали пожары. Когда опись была завершена, я незаметно выскользнул за дверь и маленькой улочкой направился к нашему дому в надежде разузнать что-нибудь о матушке и сестре.
Дом наш был полон агарян, и я повернул назад…
Сулейман отправил к Баязиду гонцов, чтобы сообщить ему радостную весть и получить повеление, как поступить с жителями города. Варвары успели тем временем разграбить все царские гробницы, церкви и дворы. А когда повеление прибыло, султанов сын оставил воеводой одного из пашей и спешно отбыл к отцу, ибо обещал он не грабить город, и оказался бы лжецом.
Уже на следующий день глашатаи стали объявлять султанов указ — чтобы кожевники и прочие ремесленники занимались своим делом, ни один волос, дескать, не упадет с их головы И купцы чтобы отворяли лавки, а кто не хочет быть райей [3], пусть примет истинную веру… Дервиши, муллы и обращенные в мусульманство рабы пошли увещевать людей, и малодушные уступали искушению. Первым принял турецкую веру один болярин, его провезли на богато украшенном коне, позади следовали вооруженные до зубов варвары, ликовали зурны и барабаны, а жена болярина, закутанная в чадру, плакала. Шествие спустилось с Царевца вниз, на показ бедному люду. Пробил тогда роковой час, час великого жертвоприношения ста десяти самых видных людей города, заплативших кровью своей за твою славу!.. Ревнитель слова и премудрости, не наслаждался ли ты, представляя себе, как ангелы божьи восхищенно склоняются над их душами? Когда вышел ты из церкви святых Петра и Павла вразумлять малодушных, и поднялся в отчаявшемся народе великий плач, и, точно стадо за пастырем, двинулся он за тобой, внимая страшным словам твоим, турки потирали себе руки, ибо увидели повод для новой резни и грабежа. Из Царева города проклинал я твоё безумие, а душа рыдала пред величием гибельной веры твоей. О, ведома была тебе червоточина в сердцах и умах твоей паствы, разъеденной ересями, и ведомо также, что не менее опасна она, чем варвары! Своими глазами видел ты христианских вассалов Баязида и тех, что надевали или готовы были надеть чалму и умножить рать нечестивых. Однако ж, ободряя, утешая и благословляя, ты разъярил варваров и турка-воеводу, и после святых Седьмочисленников — дня, когда ты нарочно придал литургии наибольшую торжественность, турок повелел самым знатным горожанам явиться к нему в большую болярскую церковь (ту самую, куда некогда вошел я, чтобы узреть Сатану), и чтоб каждый привел первородного своего сына. Своими глазами видел я, как заняли янычары церковный двор, как они же сторожили двери изнутри и снаружи. Когда жертвы вступили в храм, Шеремет-бег, стоявший в доме протовестиария у окна, погладил бороду и сказал своим приближенным: «Эти поганцы либо выйдут оттуда правоверными, либо достанутся орлам. Ежели орлам — приберем мы к рукам их добро». Я слышал стоны и звон ятаганов, яростные крики янычаров. Убили чад твоих, бросили тела их на Орловце. И Шеремет-бег получил во владение две деревни под самым Тырновградом…